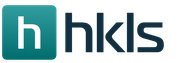Улитка на склоне. братья Стругацкие. Аркадий и Борис Стругацкие «Улитка на склоне В чем смысл улитки на склоне
«Улитку» называют одним из самых неоднозначных и сложных произведений советской литературы и одним из лучших романов братьев Стругацких. Действительно, прочитав книгу, задаешься вопросами: «А о чем это, собственно?», «Что хотели сказать авторы?»
«Улитка» была написана во второй половине 60-х годов, более 50 лет назад, и некоторые темы, волновавшие тогда советскую интеллигенцию, в современном дискурсе исчезли почти бесследно. Поэтому многие вопросы, расставленные авторами в тексте, современным читателем даже не замечаются. Поразительно, но классика XIX века оказывается ближе современному читателю, чем некоторые хорошие книги полувековой давности.
Тем не менее, попробуем разобраться с некоторыми загадками и вопросами «Улитки».
Композиционно книга составлена из двух частей: «Управление» и «Лес». Я бы сравнил художественную манеру авторов с детским калейдоскопом: темы, сюжетные линии, вопросы и ответы, символы, персонажи постоянно рассыпаются, чтобы на следующих страницах составиться в новой, причудливой комбинации, никогда не образуя при этом полной или панорамной картины. Иногда авторы в одной из частей как бы загадывают читателю загадку, чтобы в следующей части либо дать прямолинейную разгадку, либо дать намек на разгадку.
«Лес» и «Управление» объединены темой Леса. По замыслу авторов в части «Управление» Лес рассматривается как бы сверху, а в части «Лес» - изнутри. Часть «Лес» интереснее и сложнее, поэтому с нее и начнем.
Главное действующее лицо «Леса» - Кандид-Молчун. Удивительный персонаж, по-видимому, в прошлом микробиолог, когда-то над Лесом потерпевший вертолетную аварию. По воспоминаниям односельчан, при аварии ему оторвало голову, но голову пришили (отметим уровень медицины у деревенщиков), и теперь он ходит по деревне и все время молчит. Отсюда прозвище – Молчун. Сами авторы называют его Кандидом. Кандид – это герой повести Вольтера «Кандид», в переводе – «Простодушный». Процесс мышления дается ему тяжко, он сам постоянно говорит об этом (а как иначе с пришитой-то головой?) Односельчане подозревают, что он Мертвяк (так в деревне называют роботов). Другими словами, перед нами комический, карнавальный герой, которому, впрочем, авторы поручили сказать самые важные слова в романе.
«Улитку» называют научно-фантастическим романом, но часть «Лес» мне тяжело воспринимать как в качестве научной, так и в качестве фантастической. Вспомним, например, эпизод, когда Кандид и его спутница Нава забредают в Лукавую деревню. В деревне они находят очень странных людей: «они увидели человека, который лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии, он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно блестели». Мне это напомнило описание деревень во время Голодомора. Верно! В Лукавой деревне нет еды (этот факт старательно подчеркивается авторами), люди в ней распухли и погибают. В следующем эпизоде над жителями деревни ставят какие-то опыты, а еще через 2 страницы деревня просто тонет в бесшумных потоках черной (именно черной) воды. Здесь просто заметим, что в результате строительства гидроэлектростанций и затопления земель в СССР под водой оказалась территория, равная территории Франции. Весь этот процесс от голода, распухания, экспериментов, затопления и окончательной гибели в черных водах называется «Одержание».
Представляется, что здесь отчасти вольтеровским языком описан процесс строительства колхозного строя и тяжелая история советских деревень с 1917 по 1965 годы. Неудивительно, что советская цензура увидела в «Улитке» враждебную книгу, и в СССР авторам удалось ее полностью опубликовать только в перестройку – в 1988г.
Или еще один странный персонаж – Слухач: «посреди площади стоял торчком по пояс в траве Слухач, окутанный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты, - это зрелище им никогда не надоедало». Слухач – это живой радиоприемник, транслирующий пропаганду, и такой Слухач, как пишут Стругацкие, есть в каждой деревне. Со временем значение этой пропаганды было утрачено, и теперь Слухачи в состоянии транслировать только бессвязную белиберду. Но тут ценно замечание авторов - «это зрелище им (детишкам) никогда не надоедало». Как тут не вспомнить Маршалла Маклюэна с его «средствами сообщений»! Ну и конечно, Слухач – это вечный персонаж. В РФ в любом коллективе есть свой Слухач, со стеклянными глазами транслирующий Россию24 на своих коллег.
В конце своей одиссеи по Лесу Кандид и его спутница Нава встречаются с тремя амазонками (впоследствии в одном интервью Борис Стругацкий назвал их «тремя отвратительными бабами»). Между ними происходит бессвязный, плохо понятный разговор, призванный продемонстрировать, что амазонки – настоящие Хозяева Леса (так у авторов, правильнее, вероятно, называть их Хозяйками). «Я вижу, вы там впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших Белых Скалах. Вы вырождаетесь. Я уже давно заметила, что вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой человек, даже грязный мужчина», - говорит одна из амазонок. Здесь целая вереница загадок, на которые, впрочем, есть отгадки. Но главная отгадка в том, что «мертвые вещи» - это наука. Вообще же весь эпизод с амазонками, по замыслу авторов, кульминационный, с критикой науки, прогресса и планирования, как бы искусственно пристегнут к роману, и оставляет странное впечатление.
Какие же важные слова говорит Кандид-Молчун? Вот они, сказаны в финале романа: «Обреченные, несчастные обреченные. А вернее, счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены; что сильные их мира видят в них только грязное племя насильников; что сильные уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса; что все для них уже предопределено и - самое страшное - что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне, они - реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им - значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта (…) Идеалы… Великие цели… Естественные законы природы… И ради этого уничтожается половина населения? Нет, это не для меня…»
Переходим ко второй части романа – к «Управлению». Собственно, легко представить себе, например, некую Аномальную Зону с построенным рядом с ней научно-исследовательским институтом или Национальный Парк с Дирекцией и административным персоналом, охраняющим и изучающим этот парк. Поэтому ничего особо фантастического или парадоксального в этой части романа тоже нет.
Стругацкие использовали художественный прием отстраненного описания ненужных, но почему-то воспринимаемых важными вещей. Шкловский называл этот прием «остранение»: «не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание „ви́дения“ его, а не „узнавания“». В качестве примера «остранения» Шкловский приводил эпизод «Наташа Ростова в опере»: «Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками и т.д.»
Примерно в такой же ситуации, что и Наташа Ростова в опере, оказывается главный герой этой части «Улитки» – Перец. Понимая все прекрасно, и в то же время ничего не понимая, он слоняется по биостанции, попадает в Лес, затем с трудом сбегает из Леса и в конце-концов оказывается Директором. Кульминация части «Управления» - это эпизод «Перец в приемной Директора»: «Розовые шторы на окнах были глухо задернуты, под потолком сияла гигантская люстра. Кроме входной двери, на которой было написано «ВЫХОД», в приемной имелась еще одна дверь, огромная, обитая желтой кожей, с надписью «ВЫХОДА НЕТ». Таких приемных в СССР были тысячи, если не десятки тысяч.
Следует заметить, что «Управление» продолжает литературную традицию – сатирическую, связанную с Салтыковым-Щедриным, и сюжетную – с Кафкой. В приемной директора он встречает нескольких персонажей, одного из них щедринского – моншера Брандскугеля, который может произносить только одно фразу: «Я не знаю». «Я не знаю, - сказал Брандскугель, и усы у него вдруг отвалились и мягко спланировали на пол. Он подобрал их, внимательно осмотрел, приподняв край маски, и, деловито на них поплевав, посадил на место».
Второй персонаж, Беатриса Вах, приоткрывает завесу над опытами, которые Управление ставит над жителями деревень: «Мы никак не можем найти, - сказала Беатриса, - чем их заинтересовать, увлечь. Мы строили им удобные сухие жилища на сваях. Они забивают их торфом и заселяют какими-то насекомыми. Мы пытались предложить им вкусную пищу вместо той кислой мерзости, которую они поедают. Бесполезно. Мы пытались одеть их по-человечески. Один умер, двое заболели. Но мы продолжаем свои опыты. Вчера мы разбросали по лесу грузовик зеркал и позолоченных пуговиц… Кино им не интересно, музыка тоже. Бессмертные творения вызывают у них что-то вроде хихиканья… Нет, начинать нужно с детей. Я, например, предлагаю отлавливать их детей и организовывать специальные школы. К сожалению, это сопряжено с техническими трудностями, человеческими руками их не возьмешь, здесь понадобятся специальные машины…» Однако потом, в части «Лес», когда Кандид и Нава почти становятся участниками (или жертвами) такого эксперимента, то в нем также был задействован скальпель, - очевидно, намек на бесчеловечные медицинские, а не только социальные эксперименты.
Подведем итоги. «Улитка на склоне» - это не научно-фантастический роман. Скорее, это социальный роман с элементами сатиры и фантастики, написанный методом «остранения». Некоторые вопросы, поставленные авторами, сохраняют актуальность, некоторые исчезли из современного интеллектуального дискурса. Очевидно, главный пафос романа выражен в призыве – хватит экспериментов. Любых экспериментов: экологических, медицинских, социальных. Социальных – особенно. Достаточно.
- «Улитка на склоне» - вещь действительно сложная. Это был для нас с братом своеобразный эксперимент, мы решили писать ее, подчиняясь лишь свободному ходу мысли, и что получилось - не нам судить, тем более, что многие наши друзья и критики, чьему мнению мы, безусловно, доверяем, не могли дать этой книге однозначного толкования.
Аркадий Стругацкий, “Румата делает выбор“ (11 том полного собрания сочинений АБС, Неопубликованное. Публицистика.)
“Улитка на склоне” на самом деле вещь сложная – и для восприятия и для понимания. Я уже однажды пыталась ее прочитать, но не смогла, только вот нынешний мой “запой” Стругацкими помог ее одолеть. Приведенная выше цитата из интервью Аркадия Стругацкого проливает некоторый свет на причины, по которым после прочтения “Улитки” первый вопрос, возникающий в голове: “Что это было?” Если можно так сказать, “Улитка на склоне” – это окно во внутренний мир Стругацких, в самую глубину их размышлений, которое они приоткрыли для нас, читателей. Содержание “Улитки” на мой взгляд можно назвать экзистенциальными* размышлениями.
Экзистенциали́зм (от лат. existentia - существование) - особое направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека, провозглашающее его иррациональным. Экзистенциализм отличается, прежде всего, идеей преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и большим акцентом на глубине эмоциональной природы.
Википедия
Должна признаться, я перелопатила некоторое количество материалов: интервью с обоими братьями Стругацкими, где бы упоминалась “Улитка”, поговорила вчера с братом, помучила интернет на предмет всяких запросов, правда я старательно избегала любую критическую литературу (не знаю, я ей не доверяю почему-то еще со школы). Определенно, в “копательстве” есть свои преимущества.
Теперь вот как археолог, я разложу на полотне этой записи все, что удалось откопать, в надежде собрать целостную картину из разных частей мозаики… Зачем? Причина проста:
Я отношусь к такому типу людей, которые ничего не могут понять, пока не попробуют записать это на бумаге.
Харуки Мураками, “Норвежский лес”
Кандид и Перец
Да, вместе со Stasevichем я очень удивлялась именам, которые дали братья Стругацкие своим персонажам. Особенно меня коробило имя “Кандид” (в голове упрямо возникали ассоциации с грибковыми болезнями слизистых оболочек). Однако, копнув глубже, я узнала, что слово “кандид” имеет французское происхождение и означает “наивный, чистый”. А еще узнала, что есть философская повесть Вольтера “Кандид или оптимизм”, в которой основной персонаж Кандид “колесит по всему обитаемому миру и даже посещает сказочную страну Эльдорадо”. На середине пути Кандид покинул утопическое Эльдорадо и выбрал жизнь, полную страстей и опасностей. А для полной картины параллелей – Кандид по пути теряет свою возлюбленную.
Конечно, будет неверным утверждать, что вольтеровский Кандид – прототип Кандида из “Улитки”, тем более что авторы ни разу не упомянули вольтеровскую повесть, как нечто послужившее основой. А вот “Замок” Кафки упоминался. Но ведь аналогия интересная, правда?
А Перец он и в Африке перец. Даже не нужно искать особый смысл. Горечь – самая первая ассоциация, возникающая, когда мы слышим слово “перец”. Ну это все так… догадки.
Дремучесть Леса vs Система Управления
Так вот. Наивность (чистота) стремится навстречу горечи. Каждому из них почему-то нужно оказаться на месте другого. Интересно… но в итоге каждый остается на своем. И еще… как по мне, так Кандид находится в намного лучшем положении, чем Перец.
Кандид живет в Лесу, где полным-полно и трудностей и странностей. Но люди, населяющие его, пусть не великого ума и несколько дремучие, но добрые и неподлые, старающиеся жить в гармонии с Лесом. Проблема Кандида в том, что он отчетливо понимает – он здесь чужой. Его удивляет безразличие аборигенов к пониманию причинно-следственных связей происходящего вокруг и даже опасности, которая угрожает им полным уничтожением. А раз ты здесь чужой, значит, есть место, где ты свой. Вот туда и стремится попасть Кандид, только вот ум его как в тумане и помнит он не все. Ясным остается лишь стремление уйти.
…но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже тоже думал когда-то, но теперь-то уж я обязательно уйду. Хорошо бы уйти прямо сейчас, ни с кем не разговаривая, никого не упрашивая, но так можно сделать только с ясной головой, не сейчас. А хорошо бы решить раз и навсегда: как только я проснусь с ясной головой, я тотчас же встаю, выхожу на улицу и иду в лес, и никому не даю заговорить со мной, это очень важно - никому не дать заговорить с собой, заговорить себя, занудить голову, особенно вот эти места над глазами, до звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. А ведь Нава уже говорит…
А Перец работает в Управлении – неком олицетворении системы со всей ее маразматичностью, тупостью, мерзостью и тошнотворностью. Система намного хуже и гибельнее для живого, чем даже нежелание видеть причинно-следственные связи. Потому что она на корню губит все живое и убивает любой намек на внутреннюю свободу. Перец, как и Кандид, отчетливо осознает, свою чуждость этой системе.
Эта мысль, конечно, не нова, но любая система (религия, политика, образование, медицина и т.п.) намного страшнее интеллектуального невежества. Буква всегда будет убивать, вот поэтому все хорошие начинания, обретая черты системы и организации, начинают очень дурно пахнуть (и это самое меньшее из зол).
Перец недоумевает, как можно жить в системе, да еще вылавливать в ней какие-то радости? Как можно жить и не думать, не видеть маразм и тупость своего собственного существования? Это недоумение и тоска гонит его прочь из Управления и рисует в воображении недоступный Лес.
Все равно я уеду, думал Перец, нажимая на клавиши. Все равно я уеду. Вы не хотите себе, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, не буду я с вами спать и пить чай с вареньем, не хочу я больше петь вам песни, считать вам на «мерседесе», разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых вы все равно не поймете. И думать за вас я не буду, думайте сами, а я уеду. Уеду. Уеду. Все равно вы никогда не поймете, что думать - это не развлечение, а обязанность…
И все это обрекает Перца быть изгоем по доброй воле. А это, скажу я вам, совсем невесело…
А если не люди, так там делать нечего. Надо держаться людей, с людьми не пропадешь.
- Нет, - сказал Перец. - Это все не так просто. Я вот с людьми прямо-таки пропадаю. Я с людьми ничего не понимаю.
Тоска по пониманию
Увидеть и не понять - это все равно что придумать. Я живу, вижу и не понимаю, я живу в мире, который кто-то придумал, не затруднившись объяснить его мне, а может быть, и себе… Тоска по пониманию, вдруг подумал Перец. Вот чем я болен - тоской по пониманию.
Кандида и Переца (или Перца?) объединяет угнетающая неопределенность и полное отсутствие ответов на вопросы: “Кто я и зачем? Где нахожусь?” А еще упрямое, почти бессознательно стремление выйти за пределы привычного и обыденного. Такие знакомые вопросы… некоторые люди так устроены – жить не могут, пока не поймут цель всего существующего и свое место во всем этом.
На мой взгляд, именно этот поиск и нежелание признать себя творением и, следовательно, Творца, рождает глубочайшее чувство одиночества, присущее некоторым произведениям Стругацких. Это такая развилка, на которой любая дорога не принесет радости. Наблюдая глобальную гармонию всего сущего, человек не может не придти к мысли, что такая гармония не может возникнуть случайно. Но ведь, признав, творческое начало, сотворившее Вселенную и самого человека, мы будем вынуждены признать, что у Творца могут быть свои цели в отношении творения. И вот здесь мы страшно пугаемся и бунтуем. А насколько приемлема и хороша для нас будет эта неведомая воля?.. Как сильно каждого из нас напрягает возможная предопределенность и предназначение: “Так что же, стало быть, от человека ничего не зависит, раз все предопределено?”
Ведь, отвергнув идею о творческом начале, человек столкнется не только с одиночеством, но также пустотой и бессмысленностью собственного существования. И тогда вожделенная свобода не окажется ли мнимой? Такой вот невеселый выбор.
Высшие силы
Я, конечно, могу тысячу раз ошибаться, но “неразрешимый этический вопрос”, загадочные Странники – все это касается спора с тем самым творческим началом, автором всего сущего. И это одна из центральных идей, которую я вижу в творчестве Стругацких. Немного странной кажется идея спорить с тем, чего нет… Нет, это даже не спор, это крик – крик потерянной души перед лицом неизвестности:
Ты такой, какой ты есть, но могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь хотел тебя видеть: добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это, у нас не хватает на это ни сил, ни времени, мы только строим памятники, все больше, все выше, все дешевле, а помнить - помнить мы уже не можем. Но ты-то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе, издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так неужели я тебе не нужен?
Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали, а должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят между нами? Их много, я один, но я - один из них, ты, наверное, не различаешь меня в толпе, а может быть, меня и различать не стоит. Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя придумал…
P.S. В общем, все на самом деле и сложно и просто одновременно… Нет, мне не близка такая точка зрения на мир. И внутренне я всегда (еще с детства) сопротивлялась идее случайности нашего существования. Но многие другие вопросы, заданные братьями Стругацкими, я считаю важными. И просто таки необходимыми для обдумывания. Раз уж ты не находишься в числе счастливчиков, не задающихся непонятными вопросами, которых все устраивает и так.
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
Улитка на склоне
За поворотом, в глубине
Лесного лога
Готово будущее мне
Верней залога.
Его уже не втянешь в спор
И не заластишь,
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настежь.
Б. Пастернак
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Исса, сын крестьянина
Глава первая
С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел.
Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло - не шевельнулись никакие веки и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек.
Если бросать по камешку каждые полторы минуты; и если правда то, что рассказывала одноногая повариха по прозвищу Казалунья и предполагала мадам Бардо, начальница группы Помощи местному населению; и если неправда то, о чем шептались шофер Тузик с Неизвестным из группы Инженерного проникновения; и если чего-нибудь стоит человеческая интуиция; и если исполняются хоть раз в жизни ожидания - тогда на седьмом камешке кусты позади с треском раздвинутся, и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит директор, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кантом, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мохнатый, и ни на что не глядя, ни на лес под собой, ни на небо над собой, пойдет сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, поднимая ветер размахами широких ладоней, и каждый раз мощная складка на его животе будет накатывать сверху на брюки, а воздух, насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и клокотанием вырываться из разинутого рта. Как подводная лодка, продувающая цистерны. Как сернистый гейзер на Парамушире…
Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, это был знакомый человек Клавдий-Октавиан Домарощинер из группы Искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и это знание или подозрение сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда, к обрыву, странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого, наконец, потребуется все, на что он способен.
А чьи же это туфли? - спросил он и огляделся.
Это не туфли, - сказал Перец. - Это сандалии.
Вот как? - Домарощинер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот. - Сандалии? Оч-чень хорошо. Но чьи это сандалии?
Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.
Человек сидит у обрыва, - сказал он, - и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?
Это мои сандалии, - сказал Перец.
Ваши? - Домарощинер с сомнением посмотрел на большой блокнот. - Значит, вы сидите босиком? Почему? - Он решительно спрятал большой блокнот и извлек из заднего кармана малый блокнот.
Босиком - потому что иначе нельзя, - объяснил Перец. - Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. - Он нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени. - Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком…
Минуточку!
Домарощинер проворно поймал его за руку и отобрал камешек.
Действительно, простой камень, - сказал он. - Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя - даже если она действительно там, а там ли она, это уже особый вопрос, которым мы займемся попозже, - а раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я имею в виду попадание… Но мы все это сейчас выясним.
Он сунул малый блокнот в нагрудный карман и снова достал большой блокнот. Потом он поддернул брюки и присел на корточки.
Итак, вы вчера тоже были здесь, - сказал он. - Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники Управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справить нужду?
Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это не вызов и не злоба, этому не надо придавать значения. Это просто невежество. Невежеству не надо придавать значения, никто не придает значения невежеству. Невежество испражняется на лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется, и, как правило, этому не придают значения. Невежество никогда не придавало значения невежеству…
Вам, наверное, нравится здесь сидеть, - вкрадчиво продолжал Домарощинер. - Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!
А вы? - спросил Перец.
Домарощинер шмыгнул носом.
А вы не забывайтесь, - сказал он обиженно и раскрыл блокнот. - Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение к лесу - мне не ясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни… Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства, и вам в конечном счете ничто не грозит. А, Перец? Вы же взрослый человек и должны понимать, что двусмысленность неприемлема. - Он закрыл блокнот и подумал. - Вот, например, камень. Пока он лежит неподвижно, он прост, он не внушает сомнений. Но вот его берет чья-то рука и бросает. Чувствуете?
Нет, - сказал Перец. - То есть, конечно, да.
Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука? - спрашиваем мы. Куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? И зачем?.. И как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть на краю обрыва. Особенно если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.
У меня нет пропуска.
Так. Нет. А почему?
Не знаю… Не дают вот.
Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают.
Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос Домарощинера шмыгал, глаза часто мигали.
Наверное, потому что я посторонний, - предположил Перец. - Наверное, поэтому.
И ведь не только я вами интересуюсь, - продолжал Домарощинер доверительно. - Если бы только я! Вами интересуются люди и поважнее… Слушайте, Перец, может быть, вы отсядете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас.
Номинация: статья
Мир двойствен для человека...
двойственно также и Я человека
М. Бубер
Неужто никогда тебя не давит
тот факт, что ты и мир не суть одно?
Г. Бенн
Меж двумя огромными, солидными континентами литературной фантастики — научной и фэнтези — расположен куда более скромный архипелаг фантастики «гуманитарной», неопределённые очертания которого так никто толком на карту ещё не нанёс. Это и не наша задача. Но есть в том архипелаге весьма конкретный остров — и не просто остров, вулкан, всегда окутанный чёрными тучами. Грохот и огонь предупреждают читателя, что здесь идёт вечный бой, нерв оголён и вершится трагическое. Это фантастика абсурда и бунта. Бросим же поблизости якорь и поднимемся по склону — туда, где оставляет несмываемый след одна приметная улитка.
Есть некоторое недоразумение в том, что утопии и антиутопии часто рассматривают скопом. Утопия может быть упрощённой, небезупречной, но она по крайней мере не вызывает ощущения абсурда и желания бунтовать против. Собственно, наличие абсурда и бунта и разделяет эти два поджанра «гуманитарной» фантастики. По-хорошему утопичен «Хайнский цикл» Ле Гуин, описывающий общества, пусть не идеальные на века, но более человечные или стремящиеся к этому. Напротив, антиутопия вызывающе античеловечна; полагая человека не целью, а средством, она одинаково неприемлема и тогда, когда душит его цепями закона, и когда сметает вихрями хаоса. Но более всего она неприемлема своей ложью, неподлинностью и враждебностью к пониманию.
Любой вспомнит великие антиутопические романы XX века: «Мы», «О дивный новый мир», «1984», «451 по Фаренгейту». Все они в той или иной степени изображают абсурд, отчётливый уже на уровне лозунгов «Война это мир» и «Свобода это рабство». Но важно отметить, что в этих и многих других антиутопиях абсурдно и неприемлемо только общество, государство, социальный устрой. «За стеной» же, как у Замятина, непременно будет целительная природа, простая, честная жизнь, соратники и друзья. Лишь немногие произведения возвышаются до того, что Камю назвал «метафизическим бунтом» — неприятием порядка вещей как такового, «восстанием человека против своего удела и мироздания». Здесь нет выхода, разве что в смерть, нет надежды кроме иллюзии, а единственно возможная победа — это поражение. Впрочем, поражение — не капитуляция.
Яркими представителями этого направления были экзистенциалисты, к чьим текстам — художественным и философским — мы будем непрестанно обращаться. Но Камю и Сартр почти не писали фантастики — предвоенная и военная действительность позволяла ощущать абсурд и без дополнительных допущений; в более благополучные времена усилить эффект было, пожалуй, не лишне. Здесь можно назвать Кафку, Арто, в наши дни А. Володина. Особняком стоит не всё творчество, но отдельное произведение, которое, возможно, возникло в результате смутной интуиции и какого-то краткого влияния, но которое по праву занимает место рядом с «Замком» и «Тошнотой». Попытка разъяснения этого тезиса — перед вами. Она состоит из трёх частей. В первой столкнутся лбами два абсурдных универсума повести, во второй на передний план выйдут главные герои, в третьей улитка проползёт по литературному склону, раскрывая некоторые отсылки и параллели.
Управление и Лес
В случае с «Улиткой на склоне» мы имеем редкий пример прямой авторской рефлексии. В 1987 году, выступая в Ленинградском доме писателей, Борис Натанович Стругацкий подробно рассказал об истории и символике повести. По его словам, «Лес — это Будущее, символ всего необычайного и непредставимого», а «Управление — Настоящее, удивительным образом сочетающее хаос и безмозглость с многомудренностью». Это, безусловно, очень интересный взгляд, вдобавок неочевидный, поскольку многим (если не всем) критикам до 1987 года он оказался не по зубам. Но, как представляется, всё же недостаточный. Повесть ощутимо шире одного толкования. Попробуем же изложить другие, руководствуясь примечательными словами Камю: «Символ всегда возвышается над тем, кто к нему прибегает: автор неизбежно говорит больше, чем хотел».
Первую подсказку дают сами названия. Лес предстаёт запредельной пониманию природой (и шире, вселенной), управлять которой тщится человеческая цивилизация. Такой позиции неизменно придерживался С. Лем, герои которого терпят неудачу при встрече то с инопланетной цивилизацией («Эдем», «Фиаско»), то с жизнью, основанной на иных принципах («Непобедимый», «Солярис»), то с самим Космосом («Глас Господа»). Стругацкие усиливают драму контакта, показывая, что, в свою очередь, и цивилизация себя не вполне понимает, ибо устроена отнюдь не на рациональных началах и движима определённо не ими. Особенно характерна параллель равноценной по степени дикости деятельности, которую ведут как хозяева Леса (Одержание), так и руководство Управления (Искоренение). Таким образом, не только будущее непознаваемо и иррационально, но также и настоящее; абсурд не просто грядёт — он уже здесь, вокруг нас, во всём. Он тотален.
Это выводит нас на второй, более глубокий уровень интерпретации — экзистенциальный. Лес разрастается до совокупности всего существующего и существования как такового, до жизни и бытия вообще. Управление, напротив, сужается до одного человека, индивида, эвримена. Человек онтологически противостоит миру: как конечное бесконечному, смертное вечному, обусловленное безусловному, нуждающееся самодовлеющему, внутреннее внешнему. Стало быть, как человеческое — нечеловеческому. Человеку, чтобы жить, нужен смысл — бытие, напротив, бессмысленно. «Я живу в мире, который кто-то придумал, не затруднившись объяснить мне, а может быть, и себе», тоскует герой повести Перец. «Бессмысленным» называет Лес и всё, что с ним связано, Кандид. Мир неизбежно абсурден, но не потому, что он сам таков, а потому что таким его видит и встречает человек. «Абсурд не в человеке и не в мире, а в их совместном присутствии», утверждает Камю.
Таким образом, фундаментальная ситуация человек/мир создаёт дуализм по всем фронтам. Какую бы человеческую характеристику ни взять, она укажет на неустранимую двойственность: свобода и необходимость, я и мы, душа и тело, субъективное и объективное, мыслящее и мыслимое… Во всех оппозициях человек — ни то и ни другое, тем более не механическая сумма компонентов. Он — между , в разрыве, в просвете, он сам — разрыв и просвет. Он создаёт зазор в тотальном бытии, в нём только и существуя, так что в каком-то смысле он уже не бытие, но нечто противоположное — ничто. В книге Сартра «Бытие и ничто» вторая часть названия отвечает именно за человека. «Человек — единственное существо, которое отказывается быть тем, что оно есть», вторит Камю.
«Улитка» вся пронизана утверждением дуализма и бунтом против тотальности. Мы видим, что повесть состоит из двух переплетённых, но по сути не пересекающихся частей, которые даже печатались первоначально поодиночке (в 1966 году «Лес», в 1968-м — «Управление»). Оба её главных героя как могут противодействуют окружающему их абсурду (Перец — тотальной бюрократии Управления, Кандид — вездесущему Лесу и его непостижимым обитателям). Кто-то из читателей, возможно, сожалел, что они так и не встретились и не задали всем перцу, но это бы полностью противоречило экзистенциальным интонациям повести: мир должен быть разорван, чтобы нашлось место человеку . Пусть равно абсурдные, но должны существовать две половины бытия. Будь вообще только Лес, или только Управление, и ни у кого не нашлось бы силы устоять перед их тотальным, искореняющим любую инаковость монизмом. Познай Перец Лес, а Кандид — Управление (хотя сам Кандид вроде как из Управления, но ему «никогда раньше не приходило в голову посмотреть на Управление со стороны… а ведь это любопытное зрелище»), и потеряется та единственная надежда, которая ведёт их, захлопнутся те просветы, что приоткрылись благодаря двум чужакам и их неуёмному поиску смысла там, где его отродясь не бывало. И «мечта превратится в судьбу», как сказано в повести. Тогда исчезнет та хрупкая свобода, которая живёт только в бунте, а значит, исчезнет сам человек.
Но — ближе к тексту: поясним изложенное на конкретных примерах. Я не знаю, были ли знакомы Стругацкие на момент написания «Улитки» с программным романом Сартра «Тошнота» (впервые на русском он вышел только в 1992-м), но совпадения удивительные. Напомню, что для его героя Антуана Рокантена окружающий мир состоял не из отдельных вещей, а из «вязких и беспорядочных масс», «липких и густых как варенье» субстанций, чьё «омерзительное» шевеление вызывало лишь тошноту и «ярость при виде этого громадного абсурдного существа». Почти теми же словами характеризуют Лес оба героя «Улитки»: это «тяжелые бесформенные массы», «клейкая пена, зыбкое тесто», «тошнотворный кисель», от которого «мутит» и который «вызывает только омерзение и ненависть». Хотя (или поскольку) Рокантен жил в городе, чаще всего приступы тошноты случались на природе, в парке, среди цветущих деревьев, которые «зыбились существованием», заполняя всё вокруг, так что «человеку никуда не деться». Город осаждён, «взят в кольцо Растительностью» (Сартр так и пишет, с заглавной буквы!), её «вселенское почкование» ужасает Рокантена намного сильнее, чем что-либо ещё, например безобидные «минералы». «Жадная наглая зелень» Леса не только поглощает всё, с чем приходит к ней человек, она вторгается и в самого человека. «У меня весь мозг зарос лесом», жалуется Кандид. Разумеется, подобные отношения с миром не могут порождать ничего иного, кроме непонимания и тревоги. В полном соответствии с тезисом Сартра «человек это тревога» Перец говорит о «тревоге, которая уже давно стала смыслом его жизни».
Таким образом, Лес «Улитки» это точный аналог тошнотворного природного бытия Сартра, того самотождественного бытия-в-себе из его философского трактата, которое «находится повсюду, напротив меня, вокруг меня, давит меня, осаждает меня». Это бытие олицетворяет все внешние, чуждые, неведомые и неумолимые силы, действующие на человека, которые с античности принято именовать судьбой (фатумом). Кем же ещё мы назовём трёх женщин, встреченных Кандидом в финале его блужданий, женщин, воплощающих самое грозное и чудовищное, что есть в Лесу? Мойры, парки, норны — три женщины, одна из которых старуха, другая средних лет, третья юна — это они, богини судьбы, хозяйки мира, решающие, кому жить, а кому умирать. И, конечно, это не какие-нибудь сказочные ведьмы, к их услугам — не магия, а биология, а именно «мельчайшие строители» жизни, сиречь гены, контроль над которыми даёт власть над существами. Круг замкнулся: детерминизм, законы эволюции, эгоистичные гены научно подтверждены, петля бытия надёжно затянута… впрочем, «какая ещё гибель? Это просто жизнь».
Выше, расширив Лес до бытия, мы свели Управление к человеку. Это требует пояснений. Управление выделено, вынесено над окружающим его Лесом, как обособленный прыщик на гигантской плоти мира. Происходящее в нём напоминает, как уже говорилось, бюрократический абсурд Кафки, но есть более точный образ — человеческая голова. Разные персонажи Управления символизируют те или иные свойства нашего сознания и бессознательного. Тузик — это, конечно, либидо; Домарощинер — воинственное мещанство; директор, которого никто не видел (хотя каждый уверяет в обратном) и который отдаёт безумные приказы по телефону, — тот самый законодательный разум, на которого так надеялись в XVIII и XIX веках и которого низвели до иррационального потока сознания в веке двадцатом. Впрочем, какие-то нормативные принципы и рациональные способности остались, но они остроумно зашифрованы в… разумных машинах, которые сидят в ящиках и носа наружу не кажут. Если же всё-таки кто-то решит выйти на свет сознания, его ищут с закрытыми глазами (не дай бог увидеть!) и дистанционно уничтожают. — А что же мосье Перец? Ему досталась незавидная роль слабого и «бесполезного» морального Я.
Собственно, моральное Я (или голос совести) и является тем истинно человеческим началом, что пребывает в разрыве между природой внешней и природой внутренней, бытием и психикой. Это именно оно «выбирает не головой, а сердцем». Это оно одиноко и неприкаянно, «никогда ничего не знает», «всё время ошибается» и «не верит ни глазам, ни слуху, ни мыслям» (даже мыслям!). Это его зовут в Управлении — Перец, а в Лесу — Кандид.
Перец и Кандид
Два героя повести в чём-то похожи, но есть между ними и разница. Можно сказать, они дополняют друг друга, представляя две стороны двойственного образа человека.
Перец — «лингвист, филолог», человек слова и мысли, имеющий сильную потребность в рефлексии, осмыслению происходящего. В «Улитке» звучат не менее пяти больших внутренних монологов Переца, обращённых к Лесу, книгам, людям, себе самому. В них очень ярко проявляются экзистенциальные черты его личности. Перец называет себя «посторонним» (вспомним известное произведение Камю!), «лишним и чужим», сетует, что «ничего не понимает с людьми», и, однако, людей не чурается, хочет быть с ними, ищет контакта, понимания, человеческих отношений. «Хорошо бы где-нибудь отыскать людей… просто людей», мечтает он. Это гамлетовский, или романтический, тип героя — мятежный в душе, пассивный на деле, преисполненный переживаний и эмоций. «Эмоциональный материалист», отзывается Перец на вопрос о его мировоззрении. Не удивительно, что иногда он беспечно кидает камушки с обрыва, порой даже способен на поступок (пощёчина Тузику), но чаще предаётся депрессии и отчаянию: «Никакой свободы нет, заперты перед тобой двери или открыты, всё глупость и хаос, и есть только одно одиночество».
Давайте обратим внимание на его, без сомнений, «говорящее» имя. Сразу напрашивается сравнение с русским словом, обозначающим острую приправу; мол, метафорически с такими людьми наша жизнь менее пресна. Однако повесть ничем не намекает на то, что Перец — душа компании. Напротив, им все помыкают, упрекая в «непрактичности», пытаются найти ему хоть какое-то применение («вас необходимо включить в основную группу», «вы наконец-то примете участие в нашей работе»), а когда на завязшем в луже броневике собирается весёлая команда с кефиром и мандолиной, Перец «остаётся один». И вот это его полудобровольное-полувынужденное изгойство, эта деликатная интеллигентность и постоянный самоанализ совершенно определённо отсылают к архетипу еврейского интеллектуала-книжника, силами истории приговорённого к «внутренней эмиграции». Древнее еврейское имя Перец (Пэрэц) известно ещё из Торы (в синодальном переводе — Фарес). И так ли уж нас удивит, в свете нашего экзистенциального истолкования повести, что на иврите оно означает «разлом, прорыв»?
По-своему «прорывается» и Кандид. Но его меньше интересуют люди и отношения с ними. Ему важнее обрести себя прежнего, что невозможно без познания истины, которую мы бы назвали научной. Если Перец ждёт от Леса эмоционального контакта и чуть ли не мистической сопричастности, то Кандид хочет получить ответы на конкретные вопросы: откуда всё это, что значит, кто управляет, зачем и как. Кандид воплощает научный поиск, не зря по профессии он биолог. Французские смыслы его имени несомненны. Действительно, подобно герою Вольтера, Кандид ходит по нелепому, больному и откровенно враждебному миру, который никак не может быть «лучшим из возможных». Но в простодушии (а candide по-французски «простодушный») его не заподозришь. Как раз к вольтеровскому Кандиду ближе Перец, Кандид же Стругацких — человек твёрдых принципов и прямого действия, не позволяющий себе предаваться праздным мечтаниям. Его можно назвать фаустовским, или прагматическим, типом души, но ещё больше в нём от французских учёных-рационалистов: Декарта, Даламбера, Ламарка, Лавуазье и прочих. Отнюдь не случайно в его руках оказался столь чуждый Лесу скальпель, отсылающий одновременно и к остроте разума (бритва Оккама), и к подручному инструменту естествоиспытателя.
Тема скальпеля в «Улитке» — это тема бунта. Но бунтуют наши герои в начале и конце повести немного по-разному. Мир, в котором они себя обнаруживают, заполнен ложью, болтовнёй и бессмыслицей. «Здесь все врут» (даже арифмометры), делает открытие Перец. «Оказывается, всё это обман, всё опять переврали, никому нельзя верить», досадует Кандид. Управление имитирует бурную деятельность, сводящуюся едва ли не к одним разговорам. Только на время сна, похоже, закрываются рты обитателей Леса, среди которых Кандид прослыл Молчуном. У Хайдеггера, ещё одного гуру экзистенциализма, словечком «болтовня» обозначается неподлинный модус человеческого существования. Про абсурд уже было сказано достаточно. Таким образом, бунт начинается с того, что Камю в эссе «Миф о Сизифе» назвал «требованием прозрачности и ясности» — ради истины, понимания и подлинных отношений. Для Переца это означает попытку попасть в Лес, а прежде — к директору («я у него всё разнесу, пусть только попробует меня не пустить»), для Кандида — отыскать Город, который «знает всё».
Увы, цитируя того же Камю, «в этой войне человек обречён на поражение». Какими-то непостижимыми путями абсурда Перец сам становится директором, только так осознав страшную истину Управления: здесь чем большую роль ты играешь, чем сильнее вовлечён, чем выше стои шь, тем скуднее твоя свобода, тем обезличеннее действия и тем меньше в них хоть какой-то пользы. Когда-то именно словом филолог Перец сопротивлялся оглушающей зауми абсурда; теперь же любая его фраза будет истолкована как очередная безумная директива, извращена, выхолощена, подколота к предыдущим. Чужим, посторонним, бесполезным мог ещё Перец противостоять этому миру, «управляющим» — никогда.
На счастье Кандида «повелительницы Леса» не признали его достойным своего уровня. Кажется, он потерял всё: мечту о Городе, возможность хоть что-то понять и поменять, надежду вернуться к своим, неравнодушную к нему Наву; он снова оказался в деревне, откуда начинал путь, таким же молчуном, тугодумом, каждый день утешаясь давно перебродившей мыслью «Послезавтра уходим». Кажется, он проиграл, кажется, он ничего не может; «Индивид ничего не может, — соглашается Камю, — и тем не менее он способен на всё». Покуда бунтует. А Кандид продолжает бунтовать. В ясном сознании тщетности и неизбежной неудачи он встаёт на защиту «несчастных» обитателей деревни против Леса, который и наступает-то пока лишь мёртвыми, самыми примитивными силами. Что-то будет, когда он придёт всей живой и интеллектуальной мощью! Но это не важно. А важно то, что «упорный бунт против своего удела, настойчивость в бесплодных усилиях есть единственное достоинство человека», как утверждает Камю. Крайне существенно, что повесть заканчивается именно линией Кандида, а не Переца. Тем самым «Улитка на склоне» до последней страницы остаётся верна главным экзистенциальным идеям, взятым нами за основу её истолкования.
Улитка и Фудзи
Бесплодные, но возвышенные усилия героев повести приоткрывают смысл её названия. Из эпиграфа мы знаем, что эта фраза — аллюзия на хайку японского поэта Кобаяси Исса «Тихо, тихо ползи, Улитка, по склону Фудзи, Вверх, до самых высот!». В интервью 2000 года Борис Стругацкий объясняет её как «символ неторопливости прогресса и упорства человеческого в достижении цели». Опять-таки позволю себе свернуть с указанного мэтром направления. Возможно, его объяснение лучше подходит для первого варианта повести, названного «Беспокойство» и включающего, кроме аналогичной части «Лес», совсем другую тему «Базы». База, находящаяся на планете Пандора, занимается вполне осмысленной деятельностью по изучению феномена Леса. Таким образом, она олицетворяет собой привычный нам научный прогресс. Пускай Горбовский, один из учёных Базы, выражает «беспокойство» по поводу не столь очевидного морального прогресса, но в том, что он есть, текст сомневаться не даёт. Лес абсурден, «нездоров с точки зрения морали», но База-то достаточно здорова! Это вам не кафкианское Управление. Надо сказать, именно такой осторожный, но всё же оптимизм свойственен творчеству Стругацких в целом. Не зря они изобрели термин «прогрессоры». Как аналог приведу повесть «Трудно быть богом», где нравственно нормальные земляне противостоят гипертрофированному «средневековью» планеты Арканар. Но уже само сравнение с земным средневековьем наводит на мысль, что и здесь когда-нибудь обязательно наступит Возрождение, Просвещение и даже Полдень.
А вот «Улитка на склоне» стоит особняком. Во-первых, происходящее в ней принципиально нелокализуемо в пространстве и времени. На вопрос «где и когда» можно ответить лишь экзистенциально: везде и всегда, как только человек осознаёт себя заброшенным в мир и заключённым в бытии, как жук в янтаре. Во-вторых, как было уже сказано, два мира повести равно абсурдны, а герои терпят поражение и лишаются последних надежд. Это они — в качестве улитки на склоне, подобной знаменитому образу Сизифа из «Мифа о Сизифе». Улитка никогда не достигнет вершины, а если и достигнет, скатится назад, только чтобы начать заново. Да и что такое улитка перед целой горой, как не человек перед бескрайним и непостижимым Бытием? Кстати, если обратиться к первоисточнику, то скорее всего Исса именно этот смысл и вкладывал в своё хайку. Контраст улитки и горы отсылает к известнейшим (и цитируемым на Дальнем Востоке не меньше, чем библейские на Западе) притчам Чжуан-цзы, например: «С лягушкой, живущей в колодце, не поговоришь об океане» или «Летней мошке не объяснишь, что такое лёд». Так и с Перецом не поговоришь о делах Управления, Кандиду не объяснишь, что такое Лес. Однако двадцатый век качественно иначе прочитывает старые истории об обречённом Сизифе и ничтожной улитке. Теперь это трагические и бунтующие герои, которые «учат высшей верности». Пусть бесконечен склон бытия, но бесконечно и их упорство, их требование смысла и человечности.
Мы произнесли «двадцатый век», вспоминая, как много абсурда и бунта выпало в это время на долю нашей страны. Да что там, Камю на Руси жить хорошо было всегда. «Петербургские повести» Гоголя, «История одного города» Щедрина, «Котлован» Платонова, «Мастер и Маргарита» Булгакова, произведения обэриутов, ранние романы Сорокина и Пелевина, поэзия Б. Гребенщикова, «Кысь» Толстой… С каждым из них «Улитку» соединяют те или иные немаловажные смыслы. Но мне бы хотелось вновь вернуться во Францию, впрочем не теряя связи с русской литературой. Наш современник, писатель Антуан Володин, создал целое направление так называемого «постэкзотизма», в чьей, по его же словам, «поэтической вселенной предстаёт двадцатый век — в истерзанной, глубоко сокровенной форме, но также и в форме фантазийной и переиначенной». Володин прекрасно знает русский язык, в его переводах издавались многие российские авторы, в том числе братья Стругацкие (sic!), сам же он в автоинтервью любимым героем называет Сталкера из одноимённого фильма Тарковского. Не пытаясь доказать прямую зависимость Володина от повести Стругацких, я опишу его творчество в нескольких тезисах и цитатах, коих будет достаточно, чтобы увидеть глубинные и бесспорные пересечения.
В своих произведениях Володин выстраивает «причудливый, фантастический, сновидческий и подпольный» универсум, который не привязан к конкретным месту и времени. Действие обычно происходит «между двух войн», «во времена лагерей» или «в самом конце рода людского», после которого надвигается нечеловеческое будущее людей-пауков и прочих мутантов. Его герои часто пробираются через бесконечные тёмные пространства, которые на поверку оказываются шаманским междумирьем наподобие тибетского бардо. В этих путешествиях они испытывают «провалы памяти» и «отвращение к существованию». Их «одиночество безмерно», хотя они и взаимодействуют иногда через некую Организацию, смысл деятельности которой давно потерян. Они носят странные, «гибридные» имена (Дондог Бальбаян, Коминформ, Ирина Кобаяси (sic!)), будучи прежде всего «голосами» всех иных, униженных, репрессированных. Они — «монахи-солдаты» — без бога и армии. Сам автор характеризует их как «мечтателей и бойцов, проигравших все свои сражения и всё ещё находящих в себе смелость говорить». Таким образом, они воплощают «бунт против существующего мира, против человеческого удела в его политических и метафизических преломлениях».
Нет сомнений, что «Улитка на склоне» является предтечей постэкзотизма, а также промежуточным звеном между произведениями Кафки и Сартра и «наррацами» и «соклятиями» Володина. Так случилось, что в 1965 году в Советском Союзе, будучи по сути оторванными от мирового литературного процесса, Стругацкие пишут вещь, которая — поверх жанровых, национальных, идеологических барьеров — говорит нечто важное о человеке и мире вообще, о человеке-в-мире, о человеке-напротив-мира. Это гуманизм самого высокого толка. Сколько бы ни плевался огнём и пеплом вулкан истории, как бы ни совершенствовалось научно-техническое обрамление цивилизации, улитка будет упорно ползти по склону, покуда для человека остаются животрепещущими вопросы о смысле его жизни, его будущего и его человечности.
Литература
- Стругацкие А. и Б. Улитка на склоне. Опыт академического издания. — М.: НЛО, 2006
- Володихин Д. М., Прашкевич Г. М. Братья Стругацкие. — М.: Молодая гвардия, 2017
- Камю А. Бунтующий человек. — М.: Политиздат, 1990
- Сартр Ж.-П. Тошнота. Избранные произведения. — М.: Республика, 1994
- Бассман Л. [Володин А.]. С монахами-солдатами. — СПб.: Амфора, 2013
- Володин А. Дондог. — СПб.: Амфора, 2010