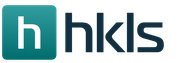Михаил алексеевич кузмин. Кузмин михаил алексеевич Писатель михаил кузмин
Реферат на тему
«Поэт серебряного века М.А. Кузьмин»
(1875-1936)
Работу выполнил
ученик ** «*» класса
ФАМИЛИЯ ИМЯ
ГОРОД
Михаил Алексеевич Кузьмин (1875-1936) – поэт, прозаик, критик, переводчик, композитор и музыкант. Родился в Ярославле в семье отставного морского офицера. Его родители были старообрядцами, и бытовые обычаи этой традиции, впитанной с детства, глубоко вошли в духовную эстетику будущего поэта. Затем семья переехала в Саратов в 1874 году, а вскоре - в Петербург в 1884 году, где Кузмин окончил гимназию. Кузьмин учился в 8-й гимназии вместе с Г. В. Чичериным. Три года проучился в консерватории - в классе композиции Римского-Корсакова, и музыка - наряду с поэзией - навсегда воцаряется в творческом мире художника.
Самый известный портрет Михаила Кузмина был создан в 1909 году Константином Сомовым. Небольшие усы и аккуратная бородка французского маркиза, прихотливые завитки темных волос, зачесанных от висков ко лбу, чрезвычайно выразительные глаза, полуприкрытые тяжелыми веками. Элегантность законодателя мод, ненатужная ироничность, чуть наигранная усталость любимца муз. Незлобивость, отсутствие мании величия, контактность М.Кузмина быстро принесли ему широкий круг знакомств среди музыкантов, литераторов, художников, актеров.
«Изящество - вот пафос поэзии М. Кузмина, везде и всегда он хочет быть милым, красивым и немного желанным. Все, даже трагическое, приобретает в его стихах поразительную легкость, и его поэзия похожа на блестящую бабочку, в солнечный день порхающую в пышном цветнике»,- писал В. Брюсов. Он отметил у Кузмина «дар стиха, певучего и легкого», а Блок в свою очередь полагал, что это «...поэт высокий и прекрасный».
Чуткое к прекрасному сердце ребенка пленяют и «Волга, вся залитая луною», и книги Шекспира, «полные крови, любви, смерти и эльфов», и произведения Гофмана. Он мечтает о «выдуманных существах, о тайном лесе, где живет царица Афра, и ее служанки перебирают струны». В романтических и одновременно обыденных красках воссоздает поэт свою родословную, и новое бытие получают под его пером:
Моряки старинных фамилий,
Влюбленные в далекие горизонты,
пьющие вино в темных портах,
обнимая веселых иностранок...
(«Моряки старинных фамилий...», 1907)
Родился Михаил Кузмин, как уже было сказано, в Ярославле, в дворянской семье, детские годы провел в Саратове, и потому волжские мотивы и корни естественно можно обнаружить в его поэзии. Он всегда восхищался «трепещущей красотой волжского приволья, старых волжских городов, тесных келий, любовных речей и песен, всей привольной и красной жизни...». Уже взрослым человеком Кузмин подолгу проводил время в заволжских скитах, бывал в имениях родных и знакомых, снимал комнату под Нижним Новгородом.
Любовью к родимому краю пронизаны строки стихотворения:
«Я знаю вас не понаслышке...», 1916
Старая русская провинция, семейные разговоры отца - отставного морского офицера, отпрыска древнего дворянского рода, и матери - правнучки французского актера, для которого Россия стала вторым домом, с самых ранних лет охватившая мальчика любовь к литературе и музыке - все это формировало его духовный мир.
С детских лет ощущает Кузмин прочное родство с прошлым - и дичится знакомых детей, растет нелюдимым, одиноким. Внутренняя обособленность обостряет наблюдательность, глубину переживаний. Поверенным душевных тайн в гимназии, в Петербурге, куда будущий поэт переезжает в 1885 г. Там он знакомится с Г. В. Чичериным – лучшим другом по жизни. Их переписка, длившаяся до 1926 г., насыщена внутренними исканиями молодых людей, стремившихся во всей сложности познать мировую культуру, осмыслить связь с ней культуры родной, русской. Однако отношения в консерватории сложились неудачно. По словам Е. А. Зноско-Боровского, «...его не одобряли, и он отвечал тем, что не показывал своих работ, приготовленных дома, и так и не кончил консерваторию», проучившись три года.
Кузмин сочинял симфонии, сюиты, песни, романсы, музыку на духовные стихи, работал над операми «Елена», «Клеопатра», «Эсмеральда», всю жизнь продолжал музицировать. По воспоминаниям мемуариста, он так говорил о своих композиторских занятиях: «...У меня не музыка, а музычка, но в ней есть свой яд, действующий мгновенно, благотворно, но ненадолго...»
В поэтических кругах успехом пользовались песни поэта, оригинально исполняемые им самим. В 1906 г. Мейерхольд, ставивший в Театре В. Ф. Комиссаржевской драму А. Блока «Балаганчик», предложил Кузмину написать музыку, и он, по словам актрисы В. П. Веригиной, создал «музыку обаятельную».
Но тогда, в конце 90-х гг., Кузмин пережил тяжелый духовный кризис, период сомнений в нужности своего искусства - музыки, жажду очищения от «несмываемого греха» и «огромную потребность веры». «Очищение может быть в странствиях и мытарствах»,- уверял он себя, предпринимая ряд путешествий. В 1885 г. он побывал в Египте, изучал религиозные культуры Востока, раннее христианство, гностицизм.
Интересовал его также итальянский католицизм, и немало дала двухмесячная поездка в Италию, «где искусство пускает ростки из каждого камня...». Не раз позже отразилась эта прекрасная страна в стихах и прозе Кузмина. Довелось ему постранствовать и по северу России, побывать в Поволжье, в местах, где особенно распространен раскол. Собирание старинных книг, духовных стихов, знакомство с пением сектантов питает истоки творчества поэта, как замечал Блок, писавший: «Для меня имя Кузмина связано всегда с пробуждением русского раскола, с темными религиозными предчувствиями России XV века, с воспоминанием о «заволжских старцах», которые пришли от глухих болотных топей в приземистые курные избы».
Мотивы старообрядчества войдут потом в циклы Кузмина «Духовные стихи», «Праздники Пресвятой Богородицы», в повесть «Крылья». Впечатления от странствий по староверческим скитам, вместе с впечатлениями от путешествий в Египет и Италию, составят органичное целое в его стихах, где волей поэта соединяются отдельные черты, казалось бы, совершенно несовпадающих миров. Так формируется творческая лаборатория автора, очень непростого для восприятия.
В начале 900-х гг. Кузмин тесно сживается с художественной, музыкальной, литературной и театральной элитой Петербурга. Он сближался со многими культурными кругами, но при этом сохранял художественную независимость.
Его литературный дебют состоялся в 1905 г., когда в «Зеленом сборнике стихов и прозы» была напечатана драматическая поэма «История рыцаря д"Алессио» и 13 сонетов.
Первый авторский сборник поэта - «Сети» (1908), рецензируя который Блок писал, что Кузмин «чужой нашему каждому дню, но поет он так нежно и призывно, что голос его никогда не оскорбит, редко оставит равнодушным и часто напомнит душе о ее прекрасном прошлом и прекрасном будущем, забываемом среди волнений наших железных и каменных будней». Тональность книги - удивительно светлая, мажорная, исполненная гармонии.
А в цикле «Александрийские песни», отдельным изданием вышедшем в свет в 1921 г., автор как бы перевоплощается в восторженного поклонника Эпикура, тонкого ценителя всех прелестей окружающей жизни:
Как люблю я, вечные бога,
прекрасный мир!
Как люблю я солнце, тростники
и блеск зеленоватого моря
сквозь тонкие ветви акации!
Как люблю я книги (моих друзей),
тишину одинокого жилища
и вид из окна
на дальние дымные просторы!
(«Как люблю я, вечные боги...»)
Это и другие стихотворения цикла («Как песня матери...», «Что же делать...», «Сладко умереть...», «Солнце, Солнце...», «Если б был я древним полководцем...» и др.) позволили говорить об авторе как блестящем стилизаторе, создателе удивительного, чистого и полного душевного покоя мира, где не страшны никакие потери, где царствует бескорыстная и целомудренная любовь, отсутствуют сомнения и тревоги.
Исследователи полагают, что Кузмин - единственный не трагический поэт в русской поэзии XX столетия. Не раз обращается он к поэтическому гению - «вожатому», ведущему его на пути к совершенству, к подлинной радости:
Я стою средь поля сжатого.
Рядом ты в блистаньи лат.
Я обрел себе Вожатого -
Он прекрасен и крылат.
(«Вожатый», 1908)
Ясен путь поэта, следующего своему предназначению. Ему чужда отвратительная, как отмечает он в дневнике, блестящая грязь улиц Петербурга под зажженными фонарями. «Нет, день - мой вождь, утро и огненные закаты, а ночь - так ясная, с луной из окна».
Уже с выходом первой книги Кузмин занял одно из видных мест в литературе. В обществе часто звучали слова и музыка его песен, собранных в книгу «Куранты любви» (1910). На фоне поэтических течений серебряного века творчество М.Кузмина выглядит необычно. Эта необычность отражается в разноголосице литературных «этикеток», прикрепляющих его к тому или иному течению, - как правило, символизму или акмеизму, а порой «неоклассицизму» или «постсимволизму». Проблема рубрикации обостряется мнением современников: так, А.Блок утверждал, что М.Кузмин никак не связан с русским символизмом, а А.Ахматова считала ошибочным мнение об акмеистической природе творчества художника. Проблематичная позиция М.Кузмина по отношению к символизму и акмеизму заставляет литературоведов прибегать к отказу от терминологической жесткости и к использованию компромиссных формулировок в отношении М.Кузмина: его поэзия обычно помещается между разделами «Символизм» и «Акмеизм» и определяется как «связанная с акмеизмом» или как «предакмеистическая». Он поддерживал дружеские отношения с представителями разных направлений в поэзии, печатался в самых разных журналах и формально стремился не принадлежать ни к одному поэтическому объединению начала века. До сих пор ведутся споры, можно ли отнести его к поздним символистам или к акмеизму. В статье «О прекрасной ясности», напечатанной в 1910 г. в журнале «Аполлон», поэт критиковал «туманности» символизма и провозглашал главным признаком художественности сопротивляющуюся хаосу логичную и четкую ясность - «кларизм» (термин символиста В. Иванова от франц. сlarte- ясность, свет), призывая: «...если вы совестливый художник, молитесь, чтобы ваш хаос просветился и устроился или покуда сдерживайте его ясной формой».
Биография
Кузмин Михаил Алексеевич (1875 - 1936) - русский писатель, композитор, музыкальный критик. Примыкал к символизму, затем к акмеизму. Сборники стихотворений «Александрийские песни» (1921), «Форель разбивает лед» (1929). Проза (повесть «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро», 1919; роман «Тихий страж», 1916, и др.). Переводы зарубежных классиков (Апулей). Вокальные произведения (многие на собственные тексты), музыка для драматического театра.
Биография
Родился 6 октября (18 н.с.) в Ярославле в дворянской семье, придерживавшейся старообрядческой веры. Детские годы прошли в Саратове, он воспитывался в традициях староверческой бытовой религиозности и чувство живой связи с церковно-национальной культурой сохранил навсегда. Но были в его роду и французские корни.
С 1885 мальчик жил в Петербурге, учился в гимназии, затем поступил в консерваторию по классу композиции, был учеником Римского-Корсакова, однако консерваторию по болезни не окончил. В эти годы много путешествовал по Италии, Египту и другим странам. Ездил и по старообрядческим селениям Севера России. И те и другие впечатления впоследствии нашли отражение в его мировидении и творчестве.
В литературу пришел сравнительно поздно. Он напечатал свои стихи в «Зеленом сборнике стихов и прозы», а в 1906 - опубликовал в крупнейшем символистском журнале «Весы» стихи из впоследствии знаменитых «Александрийских песен», привлекших внимание Волошина. Кузмина причисляли то к символизму, то к акмеизму. В 1910 написал свою программную статью «О прекрасной ясности. Заметки в прозе», в которой декларировал «аполлоническую» концепцию искусства с присущими ей требованиями стройности, четкости, логики, чистоты стиля и строгости формы. Работая в поэзии, прозе и драматургии, Кузмин неизменно следовал этим требованиям, восходящим к пушкинской традиции. В 1907 он написал повесть «Крылья», создавшую ему одиозную репутацию «поэта полового извращения», и конфискованный сборник драматургических произведений «Три пьесы». В 1908 вышел сборник стихотворений - «Сети». В 1910-е уделяет много внимания историческим «стилизациям» романов на современные темы (романы «Плавающие-путешествующие», «Тихий страж», повести «Мечтатели», «Покойница в доме», десятки рассказов). В августе 1912 вышла вторая книга стихотворений «Осенние озера», третью часть которой составляли «Духовные стихи» и «Праздники Пресвятой Богородицы». Далее следуют сборники стихов «Вожатый» (1915), «Нездешние вечера» (1921). Сборник «Параболы», включающий стихи 1921 - 1922, вышел в Берлине. Последний сборник стихов «Форель разбивает лед» появился в Ленинграде в 1929. Советская критика обошла ее молчанием. В 1915 публикует «Военные рассказы», в 1919 - роман в 3-х книгах «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро». После революции Кузмин остался в Петербурге, держась вдали от политических событий. С 1924 его постепенно вытесняют из литературной жизни. В его неопубликованных стихах проступали две новые темы: о прощении и надежде. Вокруг мэтра поэзии серебряного века сгруппировались теперь начинающие переводчики и филологи, сохранившие о нем благодарную память. После 1929 в печати не появилось ни одной его книги. Он занимался переводами из Боккаччо, Апулея, Шекспира, писал по вопросам литературы, театра, живописи. Умер М. Кузмин в нищете 3 марта 1936 в Ленинграде. Похоронен на Волковом кладбище.
Михаил Алексеевич Кузьмин является известным русским писателем, критиком и композитором. Он родился 6 октября 1875 года в городе Ярославле. Сам выходец из дворян, которые придерживались старообрядческой веры. Своё детство будущий писатель провёл в Саратове. Его воспитание проходило по правилам старообрядцев. Поэтому он всегда был связан чувствами с церковной культурой. В его роду также имелись и французские корни.
В 1885 году Кузьмин с семьёй переезжает в Петербург, где поступает в гимназию. Окончив школу, он решил учиться дальше и поступил в консерваторию. Его учителем был Римский - Корсаков. Однако ему не довелось окончить консерваторию из-за болезни.
За время своей болезни он посетил множество стран, ездил в старообрядческие поселения на Север страны. Оставшиеся впечатления и повлияли на его мировидение и творчество. Писать автор стал сравнительно поздно. Его первые стихи были опубликованы в 1906 году. В этом же году он написал свои стихи для крупнейшего символистского журнала "Весы". Впоследствии он создал ещё множество произведений.
После Октябрьской революции Кузьмин остался жить в Петербурге, не обращая внимания на политику. Начиная с 1924 года, его постепенно вытесняют из литературного сообщества. Его неопубликованные стихи несли в себе две темы: прощение и надежду. А после 1929 года он утратил полностью доверие властей, так и не опубликовав свои произведения. Он занялся переводами известных зарубежных поэтов и писателей, писал статьи по вопросам литературы, театра и живописи.
Третьего марта 1936 года Михаил Алексеевич Кузьмин скончался в нищете и был похоронен на Волковом кладбище.
М.А. Кузмин родился в Ярославле.
Долгое время он сознательно преуменьшал свой возраст, называя годом рождения то 75-й, то 76-й, то даже 77-й. «Моему отцу при моем рожденье было 60 лет, - вспоминал он, - матери - 40. Отца я помню совсем стариком, в городе все его принимали за моего деда, но не отца. В молодости он был очень красив красотою южного и западного человека, был моряком, потом служил по выборам, вел, говорят, бурную жизнь и в старости был человеком с капризным, избалованным, тяжелым и деспотическим характером. Мать, по природе, может быть, несколько легкомысленная, любящая танцы, перед свадьбой только что влюбившаяся в прошлого жениха, отказавшегося затем от нее, потом вся в детях, робкая, молчаливая, чуждающаяся знакомых и, в конце концов, упрямая и в любви и в непонимании чего-нибудь. В Ярославле я прожил года полтора, после чего мы все переехали в Саратов...»
В Саратове Кузмин пошел в гимназию.
«Я был один, братья в Казани, в юнкерском училище, сестры в Петербурге на курсах, потом замужем. У меня все были подруги, не товарищи, и я любил играть в куклы, в театр, читать или разыгрывать легкие попурри старых итальянских опер, так как отец был их поклонником, особенно Россини...»
Рос Кузмин крайне неуравновешенным. Он то бросался в истовую религиозность, то находили на него приступы безверия. В Петербурге, куда в 1884 году переехали Кузмины, самым значительным знакомством оказалось для него знакомство с Г.В. Чичериным, будущим наркомом иностранных дел при Советской власти. «Я радовался, - вспоминал поэт, - отдыхая в большой, «как следует», барской семье и внешних видах обеспеченного житья. Мы сошлись в обожании музыки, вместе бегали на «Беляевские концерты», изучали Моцарта, ходили на галерею в театр. Я начал писать музыку, и мы разыгрывали перед семейными наши композиции. Написав несколько ценных по мелодии, но невообразимых по остальному романсов, я приступил к операм и все писал прологи к «Дон Жуану» и «Клеопатре» и, наконец, сам текст и музыку к «Королю Милло» по Гоцци. Это первое, что я рискнул в литературе...» Дружбе с Чичериным Кузмин был обязан и хорошим знанием иностранных языков.
Почти всю свою сознательную жизнь Кузмин вел дневник. «Я должен быть искренен и правдив, хотя бы перед самим собою, относительно того сумбура, что царит в моей душе, - отмечал он в дневнике, - но если у меня есть три лица, то больше еще человек во мне сидит, и все вопиют, и временами один перекрикнет другого, и как я их согласую, сам не знаю. Мои же три лица до того непохожи, до того враждебны друг другу, что только тончайший глаз не прельстится этою разницей, возмущающей всех, любивших какое-нибудь одно из них, суть с длинною бородою, напоминающее чем-то Винчи, очень изнеженное и будто доброе и какой-то подозрительной святости, будто простое, но сложное; второе, с острой бородкой - несколько фатовское, французского корреспондента, более грубо-тонкое, равнодушное и скучающее, лицо Евлогия; третье, самое страшное - без бороды и усов, не старое и не молодое, 50-летнего старика и юноши, - Казанова, полушарлатан, полуаббат, с коварным и по-детски свежим ртом, сухое и подозрительное...»
В 1891 году поступил в Петербургскую консерваторию. Учился у Лядова, Римского-Корсакова, Соловьева, музыку любил и понимал, однако консерваторию не закончил, неожиданно бросил ее, решив брать частные уроки у В.В. Кюнера. На поступках Кузмина сказывались некоторые личные его особенности. «В 1893 году я встретился с человеком, - откровенно писал он в дневнике, - которого очень полюбил и связь с которым обещала быть прочной. Он был старше меня года на 4 и офицер конного полка. Было очень трудно выискивать достаточное время, чтобы ездить к нему, скрывать, где бываю с ним и т.д., но это было из счастливейших времен моей жизни, и тут я очень много писал музыки... Моя жизнь не особенно одобрялась моею матерью; как это ни странно, к этому времени относится моя попытка отравиться. Я не понимаю, чем я руководствовался в этом поступке может быть, я надеялся, что меня спасут. Я думаю, что незнание жизни, считание моего положения каким-то особенным, недовольство консерваторией, невозможность достаточно широко жить, романтизм и легкомыслие меня побудили к этому... Но весной я поехал с князем Жоржем в Египет. Мы были в Константинополе, Афинах, Смирне, Александрии, Каире, Мемфисе. Это было сказочное путешествие по очаровательности... и небывалости виденного. На обратном пути он должен был поехать в Вену, где была его тетка, я тут же вернулся один. В Вене мой друг умер от болезни сердца, я же старался в усиленных занятиях забыться. Я стал заниматься с Кюнером, и каждый шаг был наблюдаем с восторгом Чичериным, дружбе с которым это был медовый год...»
Смерть друга, с которым он совершил путешествие, действительно потрясла Кузмина. Он твердо решил полностью изменить жизнь, навести в ней порядок. Он жестко регламентировал занятия, пищу, чтение, но хватило его терпения не надолго. Скоро он вновь уехал в Италию. «Рим меня опьянил; тут я увлекся lift-boy’ем Луиджино, которого увез из Рима с согласия его родителей во Флоренцию, чтобы потом он ехал в Россию в качестве слуги. Я очень стеснялся в деньгах, тратя их без счета. Я был очень весел, и все неоплатоники влияли только тем, что я себя считал чем-то демоническим. Мама в отчаянии обратилась к Чичерину (находившемуся в то время в Германии). Тот неожиданно приехал во Флоренцию, Луиджино мне уже поднадоел, и я охотно дал себя спасти. Юша (Чичерин) свел меня с каноником Mori, иезуитом, сначала взявшим меня в свои руки, а потом и переселившим совсем к себе, занявшись моим обращением. Луиджино мы отправили в Рим, все письма диктовал мне Mori. Я не обманывал его, отдавшись сам убаюкивающему католицизму, но форменно я говорил, как бы я хотел «быть» католиком, но не «стать». Я бродил по церквам, по его знакомым, к его любовнице, маркизе Espinosi Morodi в именье, читал жития святых великомучеников, и был готов сделаться духовным и монахом. Но письма мамы, поворот души, солнце, вдруг утром особенно замеченное мною однажды, возобновившиеся припадки истерии, заставили меня попросить маму вытребовать меня телеграммой. Мы простились с каноником со слезами, обещая друг другу скорое свидание...»
В Петербурге, «войдя глубоко в русское, я увлекся расколом и навсегда охладел к официальному православию. Войти в раскол я не хотел, а не входя не мог пользоваться службами и всем аппаратом так, как бы я хотел. В это время я познакомился с продавцом древностей Казаковым, старообрядцем моих лет, плутоватым, вечно строящим планы, бестолковым и непостоянным. Я стал изучать крюки, познакомился со Смоленским, старался держаться как начетчик и гордился, когда меня принимали за старовера...» Каждое лето Кузмин проводил теперь в провинциальных городках или в деревнях на Волге. «Удивила его тогдашняя внешность, - вспоминал художник М. Добужинский. - Он носил синюю поддевку и, своей смуглостью, черной бородой и слишком большими глазами, подстриженный «в скобку», походил на цыгана. Потом он эту внешность изменил (и не к лучшему - побрился и стал носить франтовские жилеты и галстуки). Его прошлое окружала странная таинственность - говорили, что он не то жил одно время в каком-то скиту, не то был сидельцем в раскольничьей лавке, но что по происхождению был полуфранцуз и много странствовал по Италии...»
В 1908 году вышел первый сборник стихов Кузмина - «Сети», в 1912 году - «Глиняные голубки». Изысканная стилистика, необыкновенная музыкальность стихов (многие Кузмин исполнял под собственную музыку) очень быстро принесли популярность поэту. В 1918 году вышли его сборники - «Вожатый» и «Двум», в 1920-м - «Занавешенные картинки», в 1921-м - «Нездешние вечера» и «Эхо», в 1922-м - «Параболы», в 1924-м - «Новый Гуль».
«Когда видишь Кузмина в первый раз, - писал Волошин, - то хочется спросить его «Скажите откровенно, сколько вам лет» - но не решаешься, боясь получить в ответ «Две тысячи». - Без сомнения, он молод, и, рассуждая здраво, ему не может быть больше 30 лет, но в его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память. Только он не из мумий древнего Египта. Такие лица встречаются часто на эль-файюмских портретах, которые, будучи открыты очень недавно, возбудили такой интерес европейских ученых, дав впервые представление о характере физиономий Александрийской эпохи. У Кузмина такие же огромные черные глаза, такая же гладкая черная борода, резко обрамляющая бледное восковое лицо, такие же тонкие усы, струящиеся по верхней губе, не закрывая ее. Он мал ростом, узкоплеч и гибок телом, как женщина. У него прекрасный греческий профиль, тонко моделированный и смело вылепленный череп, лоб на одной линии с носом и глубокая, смелая выемка, отделяющая нос от верхней губы и переходящая в тонкую дугу уст. Такой профиль можно видеть на изображениях Перикла и на бюсте Диомеда. Но характер бесспорной античной подлинности лицу Кузмина дает особое нарушение пропорций, которое встречается только на греческих вазах; его глаз посажен очень глубоко и низко по отношению к переносице, как бы несколько сдвинут на щеку, если глядеть на него в профиль. Его рот почти всегда несколько обнажает нижний ряд его зубов, и это дает лицу его тот характер ветхости, который так поражает в нем. Несомненно, что он умер в Александрии молодым и красивым юношей и был весьма искусно набальзамирован. Но пребывание во гробе сказалось на нем, как на воскресшем Лазаре...»
«Душа, я горем не терзаем, не плачу, ветреная странница. Все продаем мы, всем должаем, скоро у нас ничего не останется... Конечно, есть и Бог, и небо, и воображение, которое не ленится, но когда сидишь почти без хлеба, становишься, как смешная пленница...»
«Денег ни гроша, - записал Кузмин в дневнике в июле 1923 года. - Когда я засветло, но уже в одиннадцатом часу шел домой, очень тоскливо думал о своем положении и своей судьбе, на Надеждинской стоял автомобиль с необыкновенно ярким фонарем. Иногда силуэт на нем шоффера. Этот при дневном свете желтый огонь будто на том свете, - безнадежно и необыкновенно сладостно...» Ощущение такой нереальности, такой прозрачности мира было в те годы знакомо многим, но Кузмина оно, видимо, охватывало с какой-то совершенно необычайной силой. «Ведь все это призраки - и Луначарский, и красноармейцы, этому нет места в природе...» - записывал он. И дальше - «Погода такая, что не хочется уходить с улицы. В такие дни большевики ужасно некстати...» - И дальше - «Мне все кажется, что это - не жизнь, не люди, не репетиции, не улицы, а какая-то скучная, сатанинская игра теней, теней и теней...»
«Ах, не плыть по голубому морю,
Не видать нам Золотого Рога,
Голубей и площади Сан-Марка.
Хорошо отплыть туда, где жарко,
Да двоится милая дорога,
И не знаю, к радости иль к горю.
Не видать открытых, светлых палуб
И судов с косыми парусами,
Золотыми в зареве заката.
Что случается, должно быть свято,
Управляем мы судьбой не сами,
Никому не надо наших жалоб.»
Выходом, спасительным для Кузмина, явилась продажа его «Дневника» Государственному литературному музею. Уже 17 декабря 1933 года поэт писал профессору Ю.А. Бахрушину «Я послал расписку в получении денег Владимиру Дмитриевичу (Бонч-Бруевичу, через которого «Дневник» поступил в музей). Дошло все благополучно, хотя почтовое отделение и было потрясено, и мы ходили дважды с чемоданами получать мои тысячи, как в старом кино «Ограбление Виргинской почты». Да, значит архив ушел, деньги уйдут, но, надеюсь, приобретенные при этом хорошие отношения останутся...»
История его «Дневников» трагична. Уже в 1934 году они были истребованы из Гослитмузея органами НКВД. «Кузмина уже не было в живых той порой, - писал исследователь его творчества А.Г. Тимофеев, - когда по его «Дневнику» (либо в том числе - и по его «Дневнику») начали брать людей. До недавнего времени эта версия слыла зловещей и леденящей кровь легендой, но факты литературной жизни Ленинграда поздних тридцатых заставляют признать ее более чем достоверной (не исключено, что «Дневник» начали использовать и при жизни автора). Нельзя не скорбеть о том, что стихотворения (Кузмина) 30-х годов (сборники «Тристан», «Простой мир», поэма «Убийством усыновленный») и переводы сонетов Шекспира были реквизированы ГПУ при аресте друга Кузмина писателя Юрия Юркуна в 1938 году и, очевидно, бесследно исчезли в одну из блокадных ленинградских зим, когда ГПУ жгло и истребляло свои архивы. Не стал ли Кузмин убийцей (в метафизическом, разумеется, смысле) своего любимого друга и многих других подававших надежды прозаиков и поэтов.. И, вероятно, уже никто не узнает, сколько таких косвенных убийств лежит на совести этого изящного человека, в котором совсем не хочется видеть - в унисон с ахматовской концепцией «Поэмы без героя» (где он выведен в маске сеющего зло Калиостро) - посланника Ада, толкующего о «страсти нежной» и увлекательной дружбе-любви... Нам возразят, что нешахматный ум Кузмина не мог предвидеть темную историю проданного в музей «Дневника». На это ответ если речь идет о художнике, в сознании которого замысел пьесы о Нероне возник в момент сооружения мавзолея, а не в год «великого перелома», когда пьеса «Смерть Нерона» была написана, - такой аргумент едва ли приемлем».
Венок весен
Чье-то имя мы услышим в пути весеннем?
В книжку сердца что напишем в пути весеннем?
Мы не вазы с нардом сладким в подвале темном:
Не пристало спать по нишам в пути весеннем.
Бег реки, ручьев стремленье кружит быстрее,
Будто стало все дервишем в пути весеннем.
Опьянен я светлой рощей, горами, долом
И травой по плоским крышам в пути весеннем!
Не утишим, не утишим в пути весеннем!
Поводырь слепой слепого, любовь слепая,
Лишь тобою мы и дышим в пути весеннем!
Ведет по небу золотая вязь имя любимое.
Шепчу я, ночью долгою томясь, имя любимое.
На площадь выйдя, громко я скажу, все пускай
Любви глашатай, крикну, не стыдясь, имя любимое.
Пускай в темницу буду заточен, славить мне
Не может запретить жестокий князь имя любимое.
Две буквы я посею на гряде желтой настурцией,
Чтоб все смотрели, набожно дивясь, имя любимое.
Пусть рук и языка меня лишат - томными вздохами
Скажу, как наша неразрывна связь, имя любимое!
Кто видел Мекку и Медину - блажен!
Без страха встретивший кончину - блажен!
Кто знает тайну скрытых кладов, волшебств,
Кто счастьем равен Аладину - блажен!
И ты, презревший прелесть злата, почет
И взявший нищего корзину, - блажен!
И тот, кому легка молитва, сладка,
Как в час вечерний муэдзину, - блажен!
А я, смотря в очей озера, в сад нег
И алых уст беря малину, - блажен!
Нам рожденье и кончину - все дает Владыка неба.
Летом жар, цветы весною, гроздья осенью румяной
И в горах снегов лавину - все дает Владыка неба.
И барыш, и разоренье, путь счастливый, смерть
в дороге,
Власть царей и паутину - все дает Владыка неба.
Кравчим блеск очей лукавых, мудрецам седин
почтенье,
Стройной стан, горбунье спину - все дает Владыка
Башни тюрем, бег Евфрата, стены скал, пустынь
просторы,
И куда я глаз ни кину - все дает Владыка неба!
Мне на долю - плен улыбок, трубы встреч,
разлуки зурны,
Не кляну свою судьбину: все дает Владыка неба.
Что, скажи мне, краше радуг? Твое лицо.
Что мудреней всех загадок? Твое лицо.
Что струею томной веет в вечерний час,
Словно дух жасминных грядок? Твое лицо!
Что, как молния, сверкает в день летних гроз
Из-за тяжких, темных складок? Твое лицо.
Что мне в сердце смерть вселяет и бледный страх,
Скорбной горечи осадок? Твое лицо.
Что калитку вдруг откроет в нежданный сад,
Где покой прудов так сладок? Твое лицо!
Что судьбы открытой книга, златая вязь
Всех вопросов, всех разгадок? Твое лицо.
Вверх взгляни на неба свод: все светила!
Вниз склонись над чашей вод: все светила!
В черном зеркале пруда час молчаний
Свил в узорный хоровод все светила.
Двери утра на замке, страж надежен,
Правят верно мерный ход все светила.
Карий глаз и персик щек, светлый локон,
Роз алее алый рот - все светила.
Пруд очей моих, отверст прямо в небо,
Отразил твоих красот все светила.
Легких пчел прилежный рой в росных розах,
Мед сбирают в звездный сот все светила.
Поцелуев улей мил: что дороже?
Ах, смешайте праздный счет, все светила!
Ты - со мной, и ночь полна; утро, медли!
Сладок нам последний плод, все светила!
Я - заказчик, ты - купец: нам пристала взглядов
Ты - прохожий, я - певец: нам пристала взглядов
Ты клянешься, я молчу; я пою и ты внимаешь;
Пусть злословит злой глупец: нам пристала взглядов
Я, прося парчи, перстней, с мудрой тайной амулетов,
Песен дам тебе венец: нам пристала взглядов мена.
Разверни любви устав, там законы ясно блещут,
Ты - судья, а я - истец: нам пристала взглядов
На охоте ты - олень: скоры ноги, чутки уши,
Но и я лихой ловец: нам пристала взглядов мена.
На горе ты стадо пас: бди, пастух, не засыпая:
Я как волк среди овец: нам пристала взглядов мена.
Милый скряга, клад храни: ловкий вор к тебе
крадется,
Ключ хитрей бери, скупец, нам пристала взглядов
Круг оцеплен, клич звучал, выходи на поединок,
Я - испытанный боец, нам пристала взглядов мена.
Птица в клетке, жар в груди, кто нам плен наш
расколдует?
Что ж, летишь ли, мой скворец? нам пристала
взглядов мена.
У меня в душе чертог: свечи тают, ладан дышит,
Ты - той горницы жилец: нам пристала взглядов
Разве раньше ты не знал, что в любви морях
Я - пловец и ты - пловец? нам пристала взглядов
Кто смеется - без ума; кто корит - без
рассужденья;
Кто не понял, тот - скопец: нам пристала взглядов
Что молчишь, мой гость немой? что косишь лукавым
Мой ты, мой ты наконец: нам пристала взглядов
Покинь покой томительный, сойди сюда!
Желанный и медлительный, сойди сюда!
Собаки мной прикормлены, открыта дверь,
И спит твой стражник бдительный: сойди сюда!
Ах, дома мне не спалося: все ты в уме...
С улыбкой утешительной сойди сюда!
Оставь постели мягкие, свой плащ накинь,
На зов мой умилительный сойди сюда!
Луною, что четырнадцать прошла ночей,
Яви свой лик слепительный, сойди сюда!
Нарушено безмолвие лишь звоном вод,
Я жду в тиши мучительной, сойди сюда!
Вот слышу, дверью скрипнули, огонь мелькнул...
Губительный, живительный, сойди сюда!
Всех поишь ты без изъятья, кравчий,
Но не всем твои объятья, кравчий!
Брови - лук, а взгляд под бровью - стрелы,
Но не стану обнимать я, кравчий!
Стан - копье, кинжал блестящий - зубы,
Но не стану целовать я, кравчий!
В шуме пира, в буйном вихре пляски
Жду условного пожатья, кравчий!
Ты не лей вина с избытком в чашу:
Ведь вино - плохая сватья, кравчий!
А под утро я открою тайну,
Лишь уснут устало братья, кравчий!
Как нежно золотеет даль весною!
В какой убор одет миндаль весною!
Ручей звеня бежит с высот в долину,
И небо чисто как эмаль весною!
Далеки бури, ветер с гор холодный,
И облаков прозрачна шаль весною!
Ложись среди ковра цветов весенних:
Находит томная печаль весною!
Влюбленных в горы рог охот не манит,
Забыты сабля и пищаль весною!
Разлука зимняя, уйди скорее,
Любовь, ладью свою причаль весною!
Желанный гость, приди, приди в долину
И сердце вновь стрелой ужаль весною!
Цветут в саду фисташки, пой, соловей!
Зеленые овражки пой, соловей!
По склонам гор весенних маков ковер;
Бредут толпой барашки. Пой, соловей!
В лугах цветы пестреют, в светлых лугах!
И кашки, и ромашки. Пой, соловей!
Весна весенний праздник всем нам дарит,
От шаха до букашки. Пой, соловей!
Смотря на глаз лукавый, карий твой глаз,
Проигрываю в шашки. Пой, соловей!
Мы сядем на террасе, сядем вдвоем...
Дымится кофей в чашке... Пой, соловей!
Но ждем мы ночи темной, песни мы ждем
Любимой, милой пташки. Пой, соловей!
Прижмись ко мне теснее, крепче прижмись,
Как вышивка к рубашке. Пой, соловей!
Нынче праздник, пахнет мята, все в цвету,
И трава еще не смята: все в цвету!
У ручья с волною звонкой на горе
Скачут, резвятся козлята. Все в цвету!
Скалы сад мой ограждают, стужи нет,
А леса-то! а поля-то: все в цвету!
Утром вышел я из дома на крыльцо -
Сердце трепетом объято: все в цвету!
Я не помню, отчего я полюбил,
Что случается, то свято. Все в цвету.
Острый меч свой отложи, томной негой полоненный.
Шею нежно обнажи, томной негой полоненный.
Здесь не схватка ратоборцев, выступающих в кругу,
Позабудь свои ножи, томной негой полоненный!
Здесь не пляска пьяных кравчих, с блеском глаз
стекла светлей,
Оком карим не кружи, томной негой полоненный!
Возлюби в лобзаньях сладких волн медлительную
Словно зыбью зрелой ржи, томной негой
полоненный!
И в покое затворенном из окна посмотришь в сад,
Как проносятся стрижи, томной негой полоненный.
Луч вечерний красным красит на ковре твой ятаган,
Ты о битвах не тужи, томной негой полоненный!
Месяц милый нам задержит, и надолго, утра час, -
Ты о дне не ворожи, томной негой полоненный!
До утра перебирая страстных четок сладкий ряд,
На груди моей лежи, томной негой полоненный!
Змеи рук моих горячих сетью крепкой заплету,
Как свиваются ужи, томной негой полоненный.
Ты дойдешь в восторгах нежных, в новых
странствиях страстей
До последней до межи, томной негой полоненный!
Цепи клятв, гирлянды вздохов я на сердце положу,
О, в любви не бойся лжи, томной негой полоненный.
Зачем, златое время, летишь?
Как всадник, ногу в стремя, летишь?
Зачем, заложник милый, куда,
Любви бросая бремя, летишь?
Ты, сеятель крылатый, зачем,
Огня посея семя, летишь?!
Что стоишь ты опечален, милый гость?
Что за груз на плечи взвален, милый гость?
Проходи своей дорогой ты от нас,
Если скорбью не ужален, милый гость!
Ах, в гостинице закрытой - три двора
Тем, кто ищет усыпален, милый гость.
Трое кравчих. Первый - белый, имя - Смерть;
Глаз открыт и зуб оскален, милый гость.
А второй - Разлука имя - красный плащ,
Будто искра наковален, милый гость.
Третий кравчий, то - Забвенье, он польет
Черной влагой омывален, милый гость.
Слышу твой кошачий шаг, призрак измены!
Вновь темнит глаза твой мрак, призрак измены!
И куда я ни пойду, всюду за мною
По пятам, как тайный враг, - призрак измены.
В шуме пира, пляске нег, стуке оружий,
В буйстве бешеных ватаг - призрак измены.
Горы - голы, ветер - свеж, лань быстронога,
Но за лаем злых собак - призрак измены.
Ночь благая сон дарит бедным страдальцам,
Но не властен сонный мак, призрак измены.
Где, любовь, топаза глаз, памяти панцирь?
Отчего я слаб и наг, призрак измены?
Насмерть я сражен разлукой стрел острей!
Море режется фелукой стрел острей!
Память сердца беспощадная, уйди,
В грудь пронзенную не стукай стрел острей!
Карий блеск очей топазовых твоих
Мне сиял любви порукой, стрел острей.
Поцелуи, что как розы зацвели,
Жгли божественной наукой, стрел острей.
Днем томлюсь я, ночью жаркою не сплю:
Мучит месяц сребролукий, стрел острей.
У прохожих я не вижу красоты,
И пиры мне веют скукой, стрел острей.
Что калека, я на солнце правлю глаз,
И безногий, и безрукий - стрел острей.
О, печаль, зачем жестоко так казнить
Уж израненного мукой, стрел острей?
Дней любви считаю звенья, повторяя танец мук,
И терзаюсь, что ни день я, повторяя танец мук!
Наполняя, подымая кубок темного вина,
Провожу я ночи бденья, повторяя танец мук.
Пусть других я обнимаю, от измены я далек, -
Пью лишь терпкое забвенье, повторяя танец мук!
Что, соседи, вы глядите с укоризной на меня?
Я несусь в своем круженьи, повторяя танец мук.
Разделенье и слиянье - в поворотах томных поз;
Блещут пестрые каменья, повторяя танец мук.
И бессильно опускаюсь к гиацинтовым коврам,
Лишь глазами при паденьи повторяя танец мук.
Кто не любит, приходите, посмотрите на меня,
Чтоб понять любви ученье, повторяя танец мук.
От тоски хожу я на базары: что мне до них!
Не развеют скуки мне гусляры: что мне до них!
Кисея, как облак зорь вечерних, шитый баркан...
Как без глаз, смотрю я на товары: что мне до них!
Голубая кость людей влюбленных, ты, бирюза,
От тебя в сердцах горят пожары: что мне до них!
И клинок дамасский уж не манит: время прошло,
Что звенели радостью удары: что мне до них!
Сотню гурий купишь ты на рынке, был бы кошель,
Ах, Зулейки, Фатьмы и Гюльнары: что мне до них!
Не зови меня, купец знакомый, - щеголь ли я?
Хороши шальвары из Бухары: что мне до них!
Алость злата - блеск фазаний в склонах гор!
Не забыть твоих лобзаний в склонах гор!
Рог охот звучит зазывно в тишине.
Как бежать своих терзаний в склонах гор?
Верно метит дротик легкий в бег тигриц,
Кровь забьет от тех вонзаний в склонах гор.
Пусть язык, коснея, лижет острие -
Тщетна ярость тех лизаний в склонах гор.
Крик орлов в безлесных кручах, визги стрел,
Хмель строптивых состязаний в склонах гор!
Где мой плен? к тебе взываю, милый плен!
Что мне сладость приказаний в склонах гор?
Горный ветер, возврати мне силу мышц
Сеть порвать любви вязаний в склонах гор.
Ночь, спустись своей прохладой мне на грудь:
Власть любви все несказанней в склонах гор!
Я лежу, как пард пронзенный, у скалы.
Тяжко бремя наказаний в склонах гор!
Летом нам бассейн отраден плеском брызг!
Блещет каждая из впадин плеском брызг!
Томным полднем лень настала: освежись -
Словно горстью светлых градин - плеском брызг!
Мы на пруд ходить не станем, окропись -
Вдалеке от тинных гадин - плеском брызг!
Ах, иссохло русло неги, о, когда
Я упьюсь, лобзаний жаден, плеском брызг?
И когда я, бедный странник, залечу
Жар больной дорожных ссадин плеском брызг?
Встречи ключ, взыграй привольно, как и встарь,
(О, не будь так беспощаден!) плеском брызг!
Несносный ветер, ты не вой зимою:
И без тебя я сам не свой зимою!
В разводе с летом я, с теплом в разводе,
В разводе с вешней бирюзой зимою!
Одет я в траур, мой тюрбан распущен,
И плащ с лиловою каймой зимою.
Трещи, костер из щеп сухих. О, сердце,
Не солнце ль отблеск золотой зимою?
Смогу я в ларчике с замком узорным
Сберечь весну и полдня зной зимою.
Печати воск - непрочен. Ключ лобзаний,
Вонзись скорей в замок резной зимою!
Разлуке кровь не утишить; уймется
Лишь под могильною плитой зимою!
Когда услышу в пеньи птиц: «Снова с тобой!»?
И скажет говор голубиц: «Снова с тобой!»?
И вновь звучит охоты рог, свора собак,
И норы скрытые лисиц: «Снова с тобой!»
Кричит орел, шумит ручей - все про одно, -
И солнца свет, и блеск зарниц: «Снова с тобой!»
Цветы пестро цветут в лугах - царский ковер -
Венец любви, венок цариц - «Снова с тобой!»
Опять со мной топаза глаз, розовый рот
И стрелы - ах! - златых ресниц! Снова с тобой!!
Зову: «Пещерный мрак покинь, о Дженн! сильно
заклятье!
Во тьме, в огне, одет иль обнажен! сильно заклятье!
Я снял печать с дверей твоих пещер, тайные знаки;
К моим ногам ползи, как раб согбен! сильно
заклятье!
Стань дымом, рыбой, львом, змеей, женой, отроком
Игра твоих бесцельна перемен. Сильно заклятье!
Могу послать тебя, куда хочу, должен лететь ты,
Не то тебя постигнет новый плен. Сильно заклятье!
Не надо царства, кладов и побед; дай мне увидеть
Лицом к лицу того, кто чужд измен. Сильно
заклятье!
О факел глаз, о стан лозы, уста, вас ли я вижу?!
Довольно, Дженн, твой сон благословен.
Сильно заклятье!»
Он пришел в одежде льна, белый в белом!
«Как молочна белизна, белый в белом!»
Томен взгляд его очей, тяжки веки,
Роза щек едва видна: «Белый в белом,
Отчего проходишь ты без улыбки?
Жизнь моя тебе дана, белый в белом!»
Он в ответ: «Молчи, смотри: дело Божье!»
Белизна моя ясна: белый в белом.
Бело - тело, бел - наряд, лик мой бледен,
И судьба моя бледна; белый в белом!
{* Газэлы 25, 26 и 27 представляют собою вольное переложение
стихотворных отрывков, вставленных в «1001 ночь», написанных, впрочем, не в
форме газэл. Взято по переводу Mardrus (t. VI. "Aventure du poete
Abou-Nowas», pgs. 68, 69 et 70, nuit 288). }
Он пришел, угрозы тая, красный в красном,
И вскричал, смущенный, тут я: «Красный в красном!
Прежде был бледнее луны, что же ныне
Рдеют розы, кровью горя, красный в красном?»
Облечен в багряный наряд, гость чудесный
Улыбнулся, так говоря, красный в красном:
«В пламя солнца вот я одет. Пламя - яро.
Прежде плащ давала заря. Красный в красном.
Щеки - пламя, красен мой плащ, пламя - губы,
Даст вина, что жгучей огня, красный в красном!»
Черной ризой скрыты плечи. Черный в черном.
И стоит, смотря без речи, черный в черном.
Я к нему: «Смотри, завистник-враг ликует,
Что лишен я прежней встречи, черный в черном!
Вижу, вижу: мрак одежды, черный локон -
Черной гибели предтечи, черный в черном!»
Каких достоин ты похвал, Искандер!
Великий город основал Искандер!
Как ветер в небе, путь прошел к востоку
И ветхий узел разорвал Искандер!
В пещеру двух владык загнав навеки,
Их узы в ней заколдовал Искандер!
Влеком, что вал, веленьем воль предвечных,
Был тверд средь женских покрывал Искандер.
Ты - вольный вихрь, восточных врат воитель,
Воловий взор, луны овал, Искандер!
Весь мир в плену: с любви свечой в деснице
Вошел ты в тайный мой подвал, Искандер.
Твой страшен вид, безмолвен лик, о дивный!
Как враг иль вождь ты мне кивал, Искандер?
Желаний медь, железо воль, воитель,
Ты все в мече своем сковал, Искандер.
Волшебник светлый, ты молчишь? вовеки
Тебя никто, как я, не звал, Искандер!
Взглянув на темный кипарис, пролей слезу,
любивший!
Будь ты поденщик, будь Гафиз, пролей слезу,
любивший!
Белеет ствол столба в тени, покоя стражник строгий,
Концы чалмы спустились вниз; пролей слезу,
любивший!
Воркует горлиц кроткий рой, покой не возмущая,
Священный стих обвил карниз: пролей слезу,
любивший.
Здесь сердце, путник, мирно спит: оно любовью
Так нищего питает рис; пролей слезу, любивший!
Кто б ни был ты, идя, вздохни; почти любовь,
прохожий,
И, бросив набожно нарцисс, пролей слезу,
любивший!
Придет ли кто к могиле нег заросшею тропою
В безмолвной скорби темных риз? пролей слезу,
любивший.
Я кладу в газэлы ларь венок весен.
Ты прими его как царь, венок весен.
Песни ты сочти мои, - сочтешь годы,
Что дает тебе, как встарь, венок весен.
Яхонт розы - дни любви, разлук время -
Желтых крокусов янтарь - венок весен.
Коль доволен - поцелуй, когда мало -
Взором в сердце мне ударь, венок весен.
Я ошибся, я считал лишь те сроки,
Где был я твой секретарь, венок весен.
Бровь не хмурь: ведь ящик мой с двойной крышкой,
Чтоб длинней был календарь, венок весен!
Венок весен
Чье-то имя мы услышим в пути весеннем?
В книжку сердца что напишем в пути весеннем?
Мы не вазы с нардом сладким в подвале темном:
Не пристало спать по нишам в пути весеннем.
Бег реки, ручьев стремленье кружит быстрее,
Будто стало все дервишем в пути весеннем.
Опьянен я светлой рощей, горами, долом
И травой по плоским крышам в пути весеннем!
Не утишим, не утишим в пути весеннем!
Поводырь слепой слепого, любовь слепая,
Лишь тобою мы и дышим в пути весеннем!
Ведет по небу золотая вязь имя любимое.
Шепчу я, ночью долгою томясь, имя любимое.
На площадь выйдя, громко я скажу, все пускай
Любви глашатай, крикну, не стыдясь, имя любимое.
Пускай в темницу буду заточен, славить мне
Не может запретить жестокий князь имя любимое.
Две буквы я посею на гряде желтой настурцией,
Чтоб все смотрели, набожно дивясь, имя любимое.
Пусть рук и языка меня лишат - томными вздохами
Скажу, как наша неразрывна связь, имя любимое!
Кто видел Мекку и Медину - блажен!
Без страха встретивший кончину - блажен!
Кто знает тайну скрытых кладов, волшебств,
Кто счастьем равен Аладину - блажен!
И ты, презревший прелесть злата, почет
И взявший нищего корзину, - блажен!
И тот, кому легка молитва, сладка,
Как в час вечерний муэдзину, - блажен!
А я, смотря в очей озера, в сад нег
И алых уст беря малину, - блажен!
Нам рожденье и кончину - все дает Владыка неба.
Летом жар, цветы весною, гроздья осенью румяной
И в горах снегов лавину - все дает Владыка неба.
И барыш, и разоренье, путь счастливый, смерть
в дороге,
Власть царей и паутину - все дает Владыка неба.
Кравчим блеск очей лукавых, мудрецам седин
почтенье,
Стройной стан, горбунье спину - все дает Владыка
Башни тюрем, бег Евфрата, стены скал, пустынь
просторы,
И куда я глаз ни кину - все дает Владыка неба!
Мне на долю - плен улыбок, трубы встреч,
разлуки зурны,
Не кляну свою судьбину: все дает Владыка неба.
Что, скажи мне, краше радуг? Твое лицо.
Что мудреней всех загадок? Твое лицо.
Что струею томной веет в вечерний час,
Словно дух жасминных грядок? Твое лицо!
Что, как молния, сверкает в день летних гроз
Из-за тяжких, темных складок? Твое лицо.
Что мне в сердце смерть вселяет и бледный страх,
Скорбной горечи осадок? Твое лицо.
Что калитку вдруг откроет в нежданный сад,
Где покой прудов так сладок? Твое лицо!
Что судьбы открытой книга, златая вязь
Всех вопросов, всех разгадок? Твое лицо.
Вверх взгляни на неба свод: все светила!
Вниз склонись над чашей вод: все светила!
В черном зеркале пруда час молчаний
Свил в узорный хоровод все светила.
Двери утра на замке, страж надежен,
Правят верно мерный ход все светила.
Карий глаз и персик щек, светлый локон,
Роз алее алый рот - все светила.
Пруд очей моих, отверст прямо в небо,
Отразил твоих красот все светила.
Легких пчел прилежный рой в росных розах,
Мед сбирают в звездный сот все светила.
Поцелуев улей мил: что дороже?
Ах, смешайте праздный счет, все светила!
Ты - со мной, и ночь полна; утро, медли!
Сладок нам последний плод, все светила!
Я - заказчик, ты - купец: нам пристала взглядов
Ты - прохожий, я - певец: нам пристала взглядов
Ты клянешься, я молчу; я пою и ты внимаешь;
Пусть злословит злой глупец: нам пристала взглядов
Я, прося парчи, перстней, с мудрой тайной амулетов,
Песен дам тебе венец: нам пристала взглядов мена.
Разверни любви устав, там законы ясно блещут,
Ты - судья, а я - истец: нам пристала взглядов
На охоте ты - олень: скоры ноги, чутки уши,
Но и я лихой ловец: нам пристала взглядов мена.
На горе ты стадо пас: бди, пастух, не засыпая:
Я как волк среди овец: нам пристала взглядов мена.
Милый скряга, клад храни: ловкий вор к тебе
крадется,
Ключ хитрей бери, скупец, нам пристала взглядов
Круг оцеплен, клич звучал, выходи на поединок,
Я - испытанный боец, нам пристала взглядов мена.
Птица в клетке, жар в груди, кто нам плен наш
расколдует?
Что ж, летишь ли, мой скворец? нам пристала
взглядов мена.
У меня в душе чертог: свечи тают, ладан дышит,
Ты - той горницы жилец: нам пристала взглядов
Разве раньше ты не знал, что в любви морях
Я - пловец и ты - пловец? нам пристала взглядов
Кто смеется - без ума; кто корит - без
рассужденья;
Кто не понял, тот - скопец: нам пристала взглядов
Что молчишь, мой гость немой? что косишь лукавым
Мой ты, мой ты наконец: нам пристала взглядов
Покинь покой томительный, сойди сюда!
Желанный и медлительный, сойди сюда!
Собаки мной прикормлены, открыта дверь,
И спит твой стражник бдительный: сойди сюда!
Ах, дома мне не спалося: все ты в уме...
С улыбкой утешительной сойди сюда!
Оставь постели мягкие, свой плащ накинь,
На зов мой умилительный сойди сюда!
Луною, что четырнадцать прошла ночей,
Яви свой лик слепительный, сойди сюда!
Нарушено безмолвие лишь звоном вод,
Я жду в тиши мучительной, сойди сюда!
Вот слышу, дверью скрипнули, огонь мелькнул...
Губительный, живительный, сойди сюда!
Всех поишь ты без изъятья, кравчий,
Но не всем твои объятья, кравчий!
Брови - лук, а взгляд под бровью - стрелы,
Но не стану обнимать я, кравчий!
Стан - копье, кинжал блестящий - зубы,
Но не стану целовать я, кравчий!
В шуме пира, в буйном вихре пляски
Жду условного пожатья, кравчий!
Ты не лей вина с избытком в чашу:
Ведь вино - плохая сватья, кравчий!
А под утро я открою тайну,
Лишь уснут устало братья, кравчий!
Как нежно золотеет даль весною!
В какой убор одет миндаль весною!
Ручей звеня бежит с высот в долину,
И небо чисто как эмаль весною!
Далеки бури, ветер с гор холодный,
И облаков прозрачна шаль весною!
Ложись среди ковра цветов весенних:
Находит томная печаль весною!
Влюбленных в горы рог охот не манит,
Забыты сабля и пищаль весною!
Разлука зимняя, уйди скорее,
Любовь, ладью свою причаль весною!
Желанный гость, приди, приди в долину
И сердце вновь стрелой ужаль весною!
Цветут в саду фисташки, пой, соловей!
Зеленые овражки пой, соловей!
По склонам гор весенних маков ковер;
Бредут толпой барашки. Пой, соловей!
В лугах цветы пестреют, в светлых лугах!
И кашки, и ромашки. Пой, соловей!
Весна весенний праздник всем нам дарит,
От шаха до букашки. Пой, соловей!
Смотря на глаз лукавый, карий твой глаз,
Проигрываю в шашки. Пой, соловей!
Мы сядем на террасе, сядем вдвоем...
Дымится кофей в чашке... Пой, соловей!
Но ждем мы ночи темной, песни мы ждем
Любимой, милой пташки. Пой, соловей!
Прижмись ко мне теснее, крепче прижмись,
Как вышивка к рубашке. Пой, соловей!
Нынче праздник, пахнет мята, все в цвету,
И трава еще не смята: все в цвету!
У ручья с волною звонкой на горе
Скачут, резвятся козлята. Все в цвету!
Скалы сад мой ограждают, стужи нет,
А леса-то! а поля-то: все в цвету!
Утром вышел я из дома на крыльцо -
Сердце трепетом объято: все в цвету!
Я не помню, отчего я полюбил,
Что случается, то свято. Все в цвету.
Острый меч свой отложи, томной негой полоненный.
Шею нежно обнажи, томной негой полоненный.
Здесь не схватка ратоборцев, выступающих в кругу,
Позабудь свои ножи, томной негой полоненный!
Здесь не пляска пьяных кравчих, с блеском глаз
стекла светлей,
Оком карим не кружи, томной негой полоненный!
Возлюби в лобзаньях сладких волн медлительную
Словно зыбью зрелой ржи, томной негой
полоненный!
И в покое затворенном из окна посмотришь в сад,
Как проносятся стрижи, томной негой полоненный.
Луч вечерний красным красит на ковре твой ятаган,
Ты о битвах не тужи, томной негой полоненный!
Месяц милый нам задержит, и надолго, утра час, -
Ты о дне не ворожи, томной негой полоненный!
До утра перебирая страстных четок сладкий ряд,
На груди моей лежи, томной негой полоненный!
Змеи рук моих горячих сетью крепкой заплету,
Как свиваются ужи, томной негой полоненный.
Ты дойдешь в восторгах нежных, в новых
странствиях страстей
До последней до межи, томной негой полоненный!
Цепи клятв, гирлянды вздохов я на сердце положу,
О, в любви не бойся лжи, томной негой полоненный.
Зачем, златое время, летишь?
Как всадник, ногу в стремя, летишь?
Зачем, заложник милый, куда,
Любви бросая бремя, летишь?
Ты, сеятель крылатый, зачем,
Огня посея семя, летишь?!
Что стоишь ты опечален, милый гость?
Что за груз на плечи взвален, милый гость?
Проходи своей дорогой ты от нас,
Если скорбью не ужален, милый гость!
Ах, в гостинице закрытой - три двора
Тем, кто ищет усыпален, милый гость.
Трое кравчих. Первый - белый, имя - Смерть;
Глаз открыт и зуб оскален, милый гость.
А второй - Разлука имя - красный плащ,
Будто искра наковален, милый гость.
Третий кравчий, то - Забвенье, он польет
Черной влагой омывален, милый гость.
Слышу твой кошачий шаг, призрак измены!
Вновь темнит глаза твой мрак, призрак измены!
И куда я ни пойду, всюду за мною
По пятам, как тайный враг, - призрак измены.
В шуме пира, пляске нег, стуке оружий,
В буйстве бешеных ватаг - призрак измены.
Горы - голы, ветер - свеж, лань быстронога,
Но за лаем злых собак - призрак измены.
Ночь благая сон дарит бедным страдальцам,
Но не властен сонный мак, призрак измены.
Где, любовь, топаза глаз, памяти панцирь?
Отчего я слаб и наг, призрак измены?
Насмерть я сражен разлукой стрел острей!
Море режется фелукой стрел острей!
Память сердца беспощадная, уйди,
В грудь пронзенную не стукай стрел острей!
Карий блеск очей топазовых твоих
Мне сиял любви порукой, стрел острей.
Поцелуи, что как розы зацвели,
Жгли божественной наукой, стрел острей.
Днем томлюсь я, ночью жаркою не сплю:
Мучит месяц сребролукий, стрел острей.
У прохожих я не вижу красоты,
И пиры мне веют скукой, стрел острей.
Что калека, я на солнце правлю глаз,
И безногий, и безрукий - стрел острей.
О, печаль, зачем жестоко так казнить
Уж израненного мукой, стрел острей?
Дней любви считаю звенья, повторяя танец мук,
И терзаюсь, что ни день я, повторяя танец мук!
Наполняя, подымая кубок темного вина,
Провожу я ночи бденья, повторяя танец мук.
Пусть других я обнимаю, от измены я далек, -
Пью лишь терпкое забвенье, повторяя танец мук!
Что, соседи, вы глядите с укоризной на меня?
Я несусь в своем круженьи, повторяя танец мук.
Разделенье и слиянье - в поворотах томных поз;
Блещут пестрые каменья, повторяя танец мук.
И бессильно опускаюсь к гиацинтовым коврам,
Лишь глазами при паденьи повторяя танец мук.
Кто не любит, приходите, посмотрите на меня,
Чтоб понять любви ученье, повторяя танец мук.
От тоски хожу я на базары: что мне до них!
Не развеют скуки мне гусляры: что мне до них!
Кисея, как облак зорь вечерних, шитый баркан...
Как без глаз, смотрю я на товары: что мне до них!
Голубая кость людей влюбленных, ты, бирюза,
От тебя в сердцах горят пожары: что мне до них!
И клинок дамасский уж не манит: время прошло,
Что звенели радостью удары: что мне до них!
Сотню гурий купишь ты на рынке, был бы кошель,
Ах, Зулейки, Фатьмы и Гюльнары: что мне до них!
Не зови меня, купец знакомый, - щеголь ли я?
Хороши шальвары из Бухары: что мне до них!
Алость злата - блеск фазаний в склонах гор!
Не забыть твоих лобзаний в склонах гор!
Рог охот звучит зазывно в тишине.
Как бежать своих терзаний в склонах гор?
Верно метит дротик легкий в бег тигриц,
Кровь забьет от тех вонзаний в склонах гор.
Пусть язык, коснея, лижет острие -
Тщетна ярость тех лизаний в склонах гор.
Крик орлов в безлесных кручах, визги стрел,
Хмель строптивых состязаний в склонах гор!
Где мой плен? к тебе взываю, милый плен!
Что мне сладость приказаний в склонах гор?
Горный ветер, возврати мне силу мышц
Сеть порвать любви вязаний в склонах гор.
Ночь, спустись своей прохладой мне на грудь:
Власть любви все несказанней в склонах гор!
Я лежу, как пард пронзенный, у скалы.
Тяжко бремя наказаний в склонах гор!
Летом нам бассейн отраден плеском брызг!
Блещет каждая из впадин плеском брызг!
Томным полднем лень настала: освежись -
Словно горстью светлых градин - плеском брызг!
Мы на пруд ходить не станем, окропись -
Вдалеке от тинных гадин - плеском брызг!
Ах, иссохло русло неги, о, когда
Я упьюсь, лобзаний жаден, плеском брызг?
И когда я, бедный странник, залечу
Жар больной дорожных ссадин плеском брызг?
Встречи ключ, взыграй привольно, как и встарь,
(О, не будь так беспощаден!) плеском брызг!
Несносный ветер, ты не вой зимою:
И без тебя я сам не свой зимою!
В разводе с летом я, с теплом в разводе,
В разводе с вешней бирюзой зимою!
Одет я в траур, мой тюрбан распущен,
И плащ с лиловою каймой зимою.
Трещи, костер из щеп сухих. О, сердце,
Не солнце ль отблеск золотой зимою?
Смогу я в ларчике с замком узорным
Сберечь весну и полдня зной зимою.
Печати воск - непрочен. Ключ лобзаний,
Вонзись скорей в замок резной зимою!
Разлуке кровь не утишить; уймется
Лишь под могильною плитой зимою!
Когда услышу в пеньи птиц: «Снова с тобой!»?
И скажет говор голубиц: «Снова с тобой!»?
И вновь звучит охоты рог, свора собак,
И норы скрытые лисиц: «Снова с тобой!»
Кричит орел, шумит ручей - все про одно, -
И солнца свет, и блеск зарниц: «Снова с тобой!»
Цветы пестро цветут в лугах - царский ковер -
Венец любви, венок цариц - «Снова с тобой!»
Опять со мной топаза глаз, розовый рот
И стрелы - ах! - златых ресниц! Снова с тобой!!
Зову: «Пещерный мрак покинь, о Дженн! сильно
заклятье!
Во тьме, в огне, одет иль обнажен! сильно заклятье!
Я снял печать с дверей твоих пещер, тайные знаки;
К моим ногам ползи, как раб согбен! сильно
заклятье!
Стань дымом, рыбой, львом, змеей, женой, отроком
Игра твоих бесцельна перемен. Сильно заклятье!
Могу послать тебя, куда хочу, должен лететь ты,
Не то тебя постигнет новый плен. Сильно заклятье!
Не надо царства, кладов и побед; дай мне увидеть
Лицом к лицу того, кто чужд измен. Сильно
заклятье!
О факел глаз, о стан лозы, уста, вас ли я вижу?!
Довольно, Дженн, твой сон благословен.
Сильно заклятье!»
Он пришел в одежде льна, белый в белом!
«Как молочна белизна, белый в белом!»
Томен взгляд его очей, тяжки веки,
Роза щек едва видна: «Белый в белом,
Отчего проходишь ты без улыбки?
Жизнь моя тебе дана, белый в белом!»
Он в ответ: «Молчи, смотри: дело Божье!»
Белизна моя ясна: белый в белом.
Бело - тело, бел - наряд, лик мой бледен,
И судьба моя бледна; белый в белом!
{* Газэлы 25, 26 и 27 представляют собою вольное переложение
стихотворных отрывков, вставленных в «1001 ночь», написанных, впрочем, не в
форме газэл. Взято по переводу Mardrus (t. VI. "Aventure du poete
Abou-Nowas», pgs. 68, 69 et 70, nuit 288). }
Он пришел, угрозы тая, красный в красном,
И вскричал, смущенный, тут я: «Красный в красном!
Прежде был бледнее луны, что же ныне
Рдеют розы, кровью горя, красный в красном?»
Облечен в багряный наряд, гость чудесный
Улыбнулся, так говоря, красный в красном:
«В пламя солнца вот я одет. Пламя - яро.
Прежде плащ давала заря. Красный в красном.
Щеки - пламя, красен мой плащ, пламя - губы,
Даст вина, что жгучей огня, красный в красном!»
Черной ризой скрыты плечи. Черный в черном.
И стоит, смотря без речи, черный в черном.
Я к нему: «Смотри, завистник-враг ликует,
Что лишен я прежней встречи, черный в черном!
Вижу, вижу: мрак одежды, черный локон -
Черной гибели предтечи, черный в черном!»
Каких достоин ты похвал, Искандер!
Великий город основал Искандер!
Как ветер в небе, путь прошел к востоку
И ветхий узел разорвал Искандер!
В пещеру двух владык загнав навеки,
Их узы в ней заколдовал Искандер!
Влеком, что вал, веленьем воль предвечных,
Был тверд средь женских покрывал Искандер.
Ты - вольный вихрь, восточных врат воитель,
Воловий взор, луны овал, Искандер!
Весь мир в плену: с любви свечой в деснице
Вошел ты в тайный мой подвал, Искандер.
Твой страшен вид, безмолвен лик, о дивный!
Как враг иль вождь ты мне кивал, Искандер?
Желаний медь, железо воль, воитель,
Ты все в мече своем сковал, Искандер.
Волшебник светлый, ты молчишь? вовеки
Тебя никто, как я, не звал, Искандер!
Взглянув на темный кипарис, пролей слезу,
любивший!
Будь ты поденщик, будь Гафиз, пролей слезу,
любивший!
Белеет ствол столба в тени, покоя стражник строгий,
Концы чалмы спустились вниз; пролей слезу,
любивший!
Воркует горлиц кроткий рой, покой не возмущая,
Священный стих обвил карниз: пролей слезу,
любивший.
Здесь сердце, путник, мирно спит: оно любовью
Так нищего питает рис; пролей слезу, любивший!
Кто б ни был ты, идя, вздохни; почти любовь,
прохожий,
И, бросив набожно нарцисс, пролей слезу,
любивший!
Придет ли кто к могиле нег заросшею тропою
В безмолвной скорби темных риз? пролей слезу,
любивший.
Я кладу в газэлы ларь венок весен.
Ты прими его как царь, венок весен.
Песни ты сочти мои, - сочтешь годы,
Что дает тебе, как встарь, венок весен.
Яхонт розы - дни любви, разлук время -
Желтых крокусов янтарь - венок весен.
Коль доволен - поцелуй, когда мало -
Взором в сердце мне ударь, венок весен.
Я ошибся, я считал лишь те сроки,
Где был я твой секретарь, венок весен.
Бровь не хмурь: ведь ящик мой с двойной крышкой,
Чтоб длинней был календарь, венок весен!