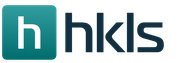Михаил Свищёв. монгольское танго Вначале все равно играет музыка
ВАЛЬКИРИЯ
Они не боятся псалмов капеллана, даже
иногда ему подпевают
высоким голосом.
Но все, что ни делают,
они делают очень страшно,
особенно - когда поправляют волосы.
Они никогда не стирают свои одежды
цвета крови,
до капли ушедшей в пашню.
И даже с мужчинами
обращаются очень нежно,
особенно - когда подбирают павших.
Они назначают свиданья на бранном поле.
Их кольчуги
легче льняного кружева.
Но смотреть им в глаза
почему-то ужасно больно,
особенно мертвому и тем более - без оружия.
ПОЕЗД
Ночь. Январь. Курьерский скорый. Ресторан.
Едут в отпуск два майора. Капитан
затонувшего в итоге корабля
уронил себе под ноги три рубля.
Их украдкой поднимают или нет,
и, навечно занимая туалет,
то ли Света, то ли Настя, вся ничья,
превратит свои запястья в два ручья…
Покосившийся шлагбаум. Протвино.
Едет в ссылку розенбаум, иванов,
едут отроки и сроки, их отцы,
сутенеры и пророки, близнецы,
Мастера и маргариты... Льет вода,
то фонарь сверкнет на бритве, то звезда.
Запотевшее окошко. Тянет в сон.
Переедет чью-то кошку колесом...
Едет токарь, едет пахарь, декабрист,
проститутка, два монаха, атеист,
едет клоунская группа (в добрый час!),
едут в морг четыре трупа, два врача,
Едут дети, ветераны, времена,
ордена и чемоданы. И она.
Нелюбима, неотпета, немила,
два браслета, две монеты, два крыла,
Фиолетовое ушко и манто...
А за ней лицом в подушку, это кто?!
Эти руки, эти кудри, борода -
эмигрант из ниоткуда в никуда.
К ней вошел почти насильно, с парой груш,
и печальный, и красивый, и не муж.
…Подготовлен был на совесть их ночлег,
проплывал в снегу по пояс их ковчег,
Мимо ехали вокзалы-города,
и мерещились то шпалы, то вода...
ЧЕТЫРЕ ОВРАГА
Наш город не помнил ни герба, ни флага.
Куранты на башнях прилежно хромали.
Больница, тюрьма да четыре оврага,
И жили, наверно, недолго, но просто...
И экс-прихожане двенадцати храмов
Собой удобряли двенадцать погостов.
Лихие прабабки справляли столетья,
Все сказки счастливо кончались венцами.
От браков рождались здоровые дети,
Которые нас называли отцами
Не то привычке, не то по ошибке
И вскоре ошибки своей устыдились...
Они дотемна собирали пожитки
И все как один досветла уходили.
Они волокли чемоданы и лица,
Они занимали вагоны и трюмы,
А после - ложились в чужие больницы,
А после - садились в далекие тюрьмы...
И были, наверно, по-своему правы,
И жили, наверно, своими умами,
Украдкой молясь за четыре канавы,
Которые мы называли холмами.
САПЕР ФОМИН
Подай перст свой сюда
Ин 20:77
Календари на палец похудели
в конце весны, и сорван без стыда
большой войны последний день недели,
который называется среда.
Зелёный цвет обратно входит в моду –
пучком травы, брезентовым ведром,
и роженицы прячутся, и воды
отходят у берлинского метро.
И, налезая строчками на ставни,
кириллица, как рация, фонит
на штукатурке майского рейхстага:
«Проверено. Бог есть. Сапёр Фомин»
МОНГОЛЬСКОЕ ТАНГО
то ли входит, садится, сдвигает столы
эскадрон, не дошедший до Ганга.
Зябко скрипнет костыль, тихо всхлипнет медаль,
и тапёр отпирает трофейный рояль,
и несётся «Монгольское танго»...
То ли хочется спеть, то ли чудится степь,
то ли время запуталось в конском хвосте,
словно цепкий июльский репейник.
И, припомнив мотив, они курят всю ночь,
и глядят, и молчат, и хозяйская дочь
подаёт им четвёртый кофейник.
И не весел никто, и никто не сердит,
где кончается спирт, начинается флирт –
приглашают хозяйку на танец.
Но за шторой давно рассвело, и уже
время прятать обратно свой маршальский жезл
в комиссарский застиранный ранец...
То ли моют полы, то ли пахнет полынь,
то ли просто укол патефонной иглы,
то ли дождь, то ли снег, то ли ангел,
теребя облака перебитым крылом,
входит в серое небо под острым углом
с первым тактом «Монгольского танго».
ВНАЧАЛЕ ВСЕ РАВНО ИГРАЕТ МУЗЫКА
Как семечки, матрос улыбки лузгает,
весь третий класс в корзинках и с цветами,
и рвёт волну с иголочки Титаник.
И галстуки не в тон, и туфли узкие,
ни пальцам, ни гостям не хватит места,
вначале всё равно играет музыка,
пока глотает каустик невеста.
Вечерняя арена пахнет мускусом,
блондинки ждут живых бандерильеро,
вначале всё равно играет музыка,
глуша собой утробный рёв вольера.
По краешку пройти – не дёрнуть мускулом,
узнав себя в бродячем акробате,
вначале всё равно играет музыка,
вначале всё равно играет музыка,
и только после – комья на лопате.
Когда, наконец, мы получим покой,
я стану бревном, а ты станешь рекой
и сможешь, едва прикасаясь устами,
делить моё тело на щепки и дрожь.
Но ты никогда никуда не впадёшь,
и я никогда ни к чему не пристану.
Нас как-то окрестят - тебе всё равно,
ты будешь Рекою Несущей Бревно.
Обещанный сразу пяти океанам,
я стану знаменьем для здешних племён.
Но если тебе вдруг не хватит имён,
то может быть, я назову тебя Анной.
И прошлые годы, как будто взаймы,
сольются в судьбу от зимы до зимы.
Совместный наш путь будет лёгким и длинным,
как всякое средство, забывшее цель,
и нам померещится в самом конце,
что мы не прошли ещё и половины.
И я буду гол, а ты будешь нага,
и оба, меняя поля на луга,
согласно теченью, покинем без грусти
ту местность, где мы не имели врагов.
…И крепкие руки иных берегов
однажды сойдутся на высохшем русле.
_________________________________________
Родился в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Переменил массу профессий – от лаборанта и архивариуса до телохранителя, пока не остановился на журналистике. В настоящее время – главный редактор издательского дома «ПЛАС».
Публиковался в журналах «Наш современник», «Октябрь», «Новая Юность», «Литературная учёба», «Дети Ра», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Окна» (Германия), альманахах «Кольцо «А», «Волшебная гора», «Окрестности», «Алконостъ» и др. Автор поэтических сборников «Последний экземпляр» («Воймега» 2009 г., специальная студенческая Волошинская премия 2010 за лучшую поэтическую книгу года) и «Одно из трёх» («Водолей» 2013, лучшая поэтическая книга года по версии НГ-Exlibris).
Лауреат Международного конкурса им. Н. С. Гумилева (2011). Живёт в Москве.
Стихи
Свищёв, Михаил Георгиевич. Родился в 1969 г. в семье советских учёных. Живёт в Москве. До поступления в Литературный институт им. Горького в 1995 г. переменил массу профессий – от лаборанта и архивариуса до телохранителя, пока не остановился на журналистике. В настоящее время – главный редактор издательского дома «ПЛАС». Публиковался в журналах «Наш современник», «Октябрь», «Новая Юность», «Литературная учёба», «Дети Ра», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Окна» (Германия), альманахах «Кольцо «А», «Волшебная гора», «Окрестности», «Алконостъ» и др. Автор поэтических сборников «Последний экземпляр» (2009 г., Студенческая Волошинская премия 2010) и «Одно из трёх» (2013, Лучшая поэтическая книга года по версии НГ-Exlibris). Лауреат Международного конкурса им. Н. С. Гумилева (2011). В мае 2009 г. в московском издательстве «Воймега» вышла книга стихов «Последний экземпляр», на которую в 2011 г. режиссером Еленой Пенкиной и театром ТЕλОς был поставлен одноименный спектакль. Лауреат студенческой версии Международной Волошинской премии 2010 г..
Лауреат Международного конкурса им. Гумилева 2011 г..
Дочь хирурга
где колонны хранят округло
электрическую юдоль
дочь сосудистого хирурга
вскрыла вены себе повдольей врачи загорелых наций
подмосковный суют ранет
мол безвыходных ситуаций
кроме жизни у смерти нет
нету повода для отчаянья
у сестры люминал и йод
вся печаль как тележка с чаем
как больничный обед пройдёт
под скрипенье оконных петель
и придушенный хрип CD
…мир как ты одинок и светел
с передачей в ногах сидит
у кровати в халате белом
если знаешь наверняка
как устроено это тело
и себя в нём исправить как
* * *
Ноябрь – день под горку, значит, вниз,
и в сумерках становится милее
за партой не заставший коммунизм,
покуда сверху эра Водолея
сливает воду в старые меха,
и окна как на корточки присели,
и только за решёткой ВэДэНХа
всё выше небеса и карусели.
Там школьник – и любим, и одинок
под первый снег бросается без шапки,
когда асфальт уедет из-под ног,
закружатся снежинки и лошадки,
жизнь кончится, как горная тропа –
ручьём, завалом, пропастью, долиной,
и в летнем павильоне шантрапа,
по новой взяв, потребует долива.
* * *
Где вчерашний вечер щеку порвал
и прихлопнут ветер дверной пружиной,
шелестит газетой Тверской бульвар,
задувает в уши слова снежинок,
на афишах Элтон, МакSим и «Тварь»,
и желая встречным семь вёрст под килем,
с ледяною банкой бредёт январь,
словно разведённый бездетный киллер,
обдирает клочья былых премьер,
с театральной скукой «ушёл-пишите»
запирает на ночь, как в шифоньер,
всю работу связок в пустой глушитель,
в непослушный твой оренбургский пух
торопливо кутает лоб и плечи,
мол, «до гроба» значит одно из двух,
а «любовь» так просто фигура речи.
* * *
Ничего не поймёшь, ничего
не расскажешь, – полжизни растратив,
разве шнур оборвёшь речевой
в телефонном её аппарате,
разве снова прошенье подашь
о досрочном, – в кухонном Гулаге
поскользнётся слепой карандаш
на холодной китайской бумаге,
разве некто дежурный в ответ
сквозь диоптрии в тонкой оправе
аккуратно надпишет конверт
и порвёт, никуда не отправив,
под колёса и утренний храп
метропоезда в цвет телогрейки
разве только забудет Зухра
в пояске заменить батарейки,
разве рыбу разбудит блесна,
на зубастую пасть выбегая, –
от желания спать, кроме сна,
только сон наяву помогает.
Облакадры
На небе, на солнце, на фоне
ещё незнакомого дня
дурачилось облако в форме
знакомой – тебя и меня,
на четверть из ангельских пений,
из цинковой краски на треть, –
бросало лохматые тени,
чтоб было на что посмотреть,
чтоб облако в форме акулы,
вплывая в пустые пруды,
приветливо нам подмигнуло
сквозь облако в форме воды,
чтоб в тёмном Царицынском парке,
улыбку поймав с высоты,
блеснул самопишущий паркер,
как фиксой, пером золотым.
Необратимость
Ещё лопатой розы у креста
четвертовали сумрачно и споро
два забулдыги, трезвые со ста,
и сторож у бетонного забора
ещё не сделал первого глотка,
ещё дышал – какая ей забота? –
тот паренёк, встававший до гудка
какого-то московского завода,
и радиомелодии не в такт
воскресных дней кружилась галерея,
ещё читалось в дымке катаракт
про тех гостей на свадьбе в Галилее,
напоенных из общего котла,
ещё из дела выдранной страницей
на первомай не выгорел дотла
кирпичный корпус раменской больницы,
ещё бросала, бешенством горя,
в уборной из кривого профнастила
в затылки отрывным календарям
«посторонись!..» – и время пропустило
вперёд ногами сквозь дверной проём
к продрогшей у подъезда перевозке:
мир – фабрика любви, и люди в нём
досадны, как отходы производства.
Местные авиалинии
Крестьянин входит в градус, как в пике,
зеленой лимонадною бутылкой
крестя не пригодившийся пакет
и безмятежный август под закрылком,
ещё глоток, и утренняя злость
уступит место утренней печали,
пусть под конец, а всё же довелось
чуток припомнить, как оно, в начале.
Пилоты улыбаются в усы,
и на троих докуривают слепо
мысль не длиннее взлётной полосы,
что лето прочь, а разве только с неба,
с технического разве этажа
посмотришь и на пашню, и на жито
…что есть земля, в которую сажать,
и есть земля, в которую ложиться.
Тень форточки
Выходит срок, как ёжик из тумана.
Я помню, как то с мамой, то без мамы
мы на метро катались и на пони,
и я тогда был маленький, но помню
Тень форточки, нацеленной на тополь,
скоропостижный санитарский топот,
и бригантиной скорая с утра
бросает якорь в гавани двора.
«Она была наводчицей, — сказал
Завельский М. — но в чём базар-вокзал —
не у воров (ну, помнишь, как в кине?),
а этой, блин… короче, на войне»,
— и стал трындеть, как видел гомосека.
Скороговоркой чушь несла соседка:
«Сердечница — дошла до сердца рейха,
лишь в паспортном узнала, что…» Еврейка,
Она не отрицала Холокост.
Под запонкой нащупывая кость,
звенел июль хрустальными шприцами,
больная и его не отрицала,
В термометре её застыла ртуть.
На что похож последний ихний путь?
— наверное, от Бога и до Бога
тех… как она… их было очень много?
Ах, ветераны, божие рабы,
я помню табуретки и гробы,
подушки в стиле брежневских идиллий,
не помню только, чем вас наградили,
Ведь на лицо — не наша в том вина —
все на одно чужие ордена.
Где кран высотный стоя видит сны
про наши майны и про наши виры,
там все они от снов ограждены
огнём квартиры.
Спит двоечник, не вызубрив урок,
с «пятёркой » спит бомбила, ну а где-то
за парой контрабандных полустрок
не спят поэты.
Дыша в окно клубами анаши —
сухой сиренью и горячим толем,
сидят взахлёб, не в силах завершить
свое застолье.
Им ночь склоняет вещи по родам,
но лампочке на горле невысоком
не всё гореть. Не всё по проводам
сочиться током.
Где под коньком китайским борозда
проведена подобием железа,
студёная крещенская вода
сквозь перекись сочится из пореза,
прозрачная, как в йоде буква "ё",
она с утра во всём микрорайоне
единственною каплей до краёв
наполнила катки и водоёмы.
Здесь пахнет димедролом и тавотом,
и ёжики насвистывают что-то
сквозь дырочку в четвертом позвонке,
здесь скорую не купишь на спасибо,
здесь время года — поздняя Россия,
и крякнутый Вивальди на звонке.
Здесь солнце, перекинувшись мишенью,
играет пять недель на повышенье,
и бабки выбирают новый ДЕЗ:
— почём, краса, дрова?
— сперва прожуй-ка,
захлопнет дверцу русская буржуйка,
до сотни разгоняя «мерседес».
Здесь, пропадая ни за буки-веди,
пылает православный проповедник,
вмерзает в лёд восторженный имам,
и обходя чахоточный розарий,
моргает смерть пушистыми глазами,
красивая, как здешняя зима.
В этой кружке кола, а кофе тут.
— Ты окончишь школу и институт.
— Мама, он спокойный и ходит в храм,
(а под сердцем шрам, и на горле — шрам,
и как только оба обнажены —
взгляд войны, как пристальный
взгляд жены).
— Он работал в ЧОПе (лаваш-халяль),
по ночам о чём-то — «…черпак, ***рь!»
на армейской фене — и мне на раз
выпадает феном сушить матрас.
— Разведёнка, коли не сирота,
— Долли, эта складка, и тень у рта…
Ты за всё в ответе, не лишена …
— Дальше? Только дети, и тишина.
Уже лежат младенцы на столе,
уже наместник дрочит пистолет,
то с локтя примеряясь, то с подскока;
безбожно нарезая гопака,
ховается Европа под быка,
пока с Востока
немногословен, тонок и могуч,
не то что лазер — заплутавший луч
указки, не сыскав аэродрома,
поглядывает искоса сюда,
внимательней, чем новая звезда
в окно роддома.
Нет входа
Беспечней, чем Наталия Негода
снимала лифчик в давешнем кино,
толпа в метро под вывеску "Нет входа"
ныряет и не давится виной,
Ведь у толпы статистика иная,
чем среднее давленье или пульс,
она, толпа, походу что-то знает
о том, что я узнать не тороплюсь
О вывеске — к несчастью или к счастью
есть выход, входа нету на Руси, —
из-под неё никто не возвращался,
а то бы я о многом расспросил.
…Когда ещё пузырь под чебурек
возьмём вдогон с акцизкой новодельной,
скажу, что после счастья человек
похож на город после наводненья:
Под вымытыми окнами больниц
ржавеют неходячие трамваи,
и со скамеек выгнутых страниц
навечно стёрты гарики и вали, —
Там скверик, не похожий на костёр,
чьим клёнам вышло наголо побриться,
но зеленеет крышами костёл,
из-за ограды местного зверинца
Не ранят ни мяуканье, ни вой,
и в дебрях звукового целибата
ещё плывёт по гладкой мостовой
вперегонки с фанерною лопатой
Наполовину начатый «агдам»,
оставленный в сторожке по запарке,
но нежность убывает, как вода
из неоткрытых клеток зоопарка.
Здесь нету ни окольной, ни прямой:
степная даль с медлительностью цейса,
как скулы свежевыжатый лимон,
свела в пучок ленд-лизовские рельсы
из точки М в другую точку.ру,
здесь приму курят даже гомосеки,
засаленный Сорокин по нутру
бальзаковского возраста соседке,
чьё время закусило удила,
отстукивая стыки еле-еле,
и ровно сутки ехать по делам,
и столько же обратно не при деле
мелькают лесополосы к Перми,
…под барабанной палочкой всё тот же
над шпалами сужающийся мир
натянут, как шагреневая кожа.
Ветераны там, не ветераны…
В привокзальной будке индивид
однорукий жопу вытирает
ловко, как почти не инвалид.
Повидав афганов-сирий-ливий,
для такого рукоремесла
он бы ни на рупь не стал счастливей,
если бы вторая отросла.
Потому что верно лишь отчасти:
перемелешь — костная мука,
потому что сроду наше счастье
не у нас покоится в руках.
Потому что нужно так немного,
да и то — не здесь и не сейчас,
на ходу колясочник безногий
просипит ему — «салам, бача!»
Всё равно, Обама там, трахома,
наплевать — Балашиха, Бали…
нет за гробом ничего такого,
что бы мы при жизни не смогли.
 Михаил Свищёв (род. 1969) — поэт, журналист, главный редактор издательского дома «ПЛАС-Альянс». Живёт в России. Родился в Москве в семье советских учёных. До поступления в Литературный институт им. Горького в 1995 г. переменил массу профессий — от лаборанта и архивариуса до телохранителя.
Михаил Свищёв (род. 1969) — поэт, журналист, главный редактор издательского дома «ПЛАС-Альянс». Живёт в России. Родился в Москве в семье советских учёных. До поступления в Литературный институт им. Горького в 1995 г. переменил массу профессий — от лаборанта и архивариуса до телохранителя.
Печатался в журналах «Октябрь», «Наш современник», «Новая юность», «Нева», «Сибирские огни», «Литературная учеба», «День и Ночь», «Интерпоэзия», «Дети Ра», альманахах «Кольцо А», «Волшебная гора», «Окрестности» и ряде других изданий.
Автор четырех поэтических книг: «Последний экземпляр» («Воймега», 2009), «Одно из трёх» («Водолей», 2013, признана изданием НГ-Exlibris «лучшей поэтической книгой 2013 года»), «Кладбище велосипедов» (Издание Российского союза писателей, 2015) и «Антифриз» (Издание Российского союза писателей, 2016).
Михаил Свищёв. Одно из трёх. Стихотворения. - М. : Водолей, 2013. - 88 с.
…Я ехала в Рязань из Москвы в поезде дальнего следования, читая по дороге только что обретённую книгу стихов Михаила Свищёва «Одно из трёх». Подошла проводница, попросила билет. Пришлось положить книгу на столик обложкой кверху.
- Что это за книга? - внезапно поинтересовалась молодая проводница, автоматически проделывая привычные манипуляции с билетом и глядя мимо него, на сборник Свищёва.
- Стихи, - несколько удивлённо ответила я.
- Ах, стихи, - удовлетворённо сказала девушка. - Просто обычно по обложке книги видно, хорошая она или нет. Эта книга - хорошая.
Всё это было первый раз в моей жизни: проводница поезда, проявляющая внимание не к беспорядку на столе пассажира, а к книге в его руках, удивительная теория, что хорошую книгу с обложки видно, да и книга Михаила Свищёва. Раньше я читала его стихи только в подборках в печати и в Интернете да слышала вживую на фестивалях.
Поражённая сюрреалистичной ситуацией, я не спросила проводницу, по каким признакам она определяет качество книги «с обложки» - а она, проследовав дальше, занялась типовым «проводницким» выговором мужчинам, накрывшим поляну с водочкой, и возвращаться к литературе казалось после этого карикатурно. По оформлению судит девушка, что ли? - подумала я и попыталась другими глазами посмотреть на сборник «Одно из трёх». «Другими глазами» я увидела то же, что и своими: чёрно-белую гамму, бархатно-чёрное поле, в котором на белом прямоугольнике две «серые» (так выглядит без цвета телесность) руки играют тремя напёрстками, отдельно катается чёрный шарик. Сверху, над картинкой, напечатано «Михаил Свищёв», снизу якобы «написано» полупечатными размашистыми буквами: «Одно из трёх». Концепция обложки полностью соответствует названию, но во всём этом присутствует явный символизм. Может быть, именно его прочувствовала столь интересная проводница?.. Ведь она не видела четвёртой страницы обложки, на которой напечатаны стихи вот таким образом:
Анкета.
1. Любимое занятие - слова.
2. Привычки - контрабасы и трамваи.
3. С двенадцатого лета сорок два.
4. Судьба сложилась так, что проживаю.
5. Гражданская позиция - финал.
6. Общественная роль - пиджак и галстук.
7. В чём принимал - в рюмке принимал.
8. Участвовал? - не факт, но привлекался.
9. Характер отношений - уходил.
10. Цель возвращенья - чаще за вещами.
11. Мужской журнал - со школы «Крокодил».
12. Последняя работа - завещанье.
13. Судимости - уже не по годам.
14. Стиль жизни - начинать её с зачатья.
15. Ваш общий стаж - на это не гадал.
16. Вы счастливы? - наверное. Отчасти.
А значит, тонко чувствующая дама поезда угадала: книга Михаила Свищёва - классная книга стихов. Даже если бы она состояла из одной «Анкеты», было бы понятно, что Михаил Свищёв - поэт незаурядный. Несмотря на свою приверженность традиционной ритмо-рифмованной лирике.
Впрочем, я не раз уже отмечала, и в обзорах нашей рубрики в том числе, что сегодня поэтическая незаурядность всё чаще выражается приверженностью этому «архаичному» формату стихосложения. Иначе говоря, автор, выбирающий уверенную силлабо-тонику, чёткий ритм, конкретные рифмы, сюжетные линии в каждом стихотворении, выступает едва ли не «оппозиционером» к мейнстриму стихотворной техники в современной поэзии. Конечно, строгую статистику я не вела (да и возможна ли она?). Но стихи, «потерявшие» как минимум одну из этих составляющих, а то и все их скопом, приходится читать, пожалуй, чаще, чем стихи, оснащённые ими.
Кстати, откуда я ехала с книгой Михаила Свищёва - это ведь тоже любопытно! 30 октября 2014 года в Москве состоялось очередное мероприятие поэта и критика Бориса Кутенкова из серии «Полёт разборов». Это встреча поэтов и критиков, в ходе которой первые читают стихи, а вторые с ходу разбирают прочитанное. Допустим, не совсем с ходу - подборки высылаются критикам немногим ранее. Однако пафос мероприятия именно в синхронности поэтического исполнения и критического анализа, а также обсуждения одного и того же текста несколькими критиками с разных сторон. В «Полёте», где участвовала я, вместе «парили» поэты Нина Краснова, Фазир Муалим, Михаил Свищёв, Наталия Черных, и критики: Анна Берсенева, Людмила Вязмитинова, Рустам Габбасов, Андрей Тавров, не считая вашей покорной. Думаю, не ошибусь, утверждая, что наибольшие споры среди критиков вызвали поэты «традиционного» слога - Нина Краснова и Михаил Свищёв. Поэзию Нины Красновой вынесем за скобки, это особый разговор. А у Михаила самым полемичным оказалось стихотворение, не вошедшее в книгу «Одно из трёх», но настолько характерное для этого поэта, что не удержусь от цитирования. От полного цитирования, ибо меня эти стихи завораживают:
А помните, как пели всем отрядом?
Как дворники баюкали дворы?
(Во-первых, потому что был порядок,
А остальное было во-вторых)
Как прятали в загашнике полмира,
На рупь удар, на столько же замах,
Как плавили имперские пломбиры
Стальные пломбы в сливочных зубах,
Как улыбались потными глазами
Вам, поросли, сдающей ГТО,
И Сталин, молодой, как мукузани,
И Микоян без всяких ГМО,
На книжный шкаф держали по скелету,
Плеханов - Ленин - Каутский - Каплан,
И, как штаны, спускали пятилетку
С худых задов в четырёхлетний план,
Как завозили этой - не халяли -
Халвы московской в пыльное сельпо…
Почём вам знать, что вас не расстреляли?!
Вас расстреляли, просто вы не по…
Мнения критиков разделились капитально: Борис Кутенков и Людмила Вязмитинова настаивали, что стихотворение это - самое слабое во всей подборке. Примечательно, что они находили для одного тезиса разные аргументы - Борис считал, что «плакат», то бишь прямое политизированное высказывание, не может быть поэтичным по определению, а Людмила заявила, что автор, не живший в описываемое время, не может его знать и воспроизвести с точностью. Признаться, мне эта точка зрения показалась странной, потому что, если взять её на вооружение, не должны писаться стихи на исторические темы вообще. Не мог бы тогда Пушкин, «стреноженный» тем, что не жил в описываемое время, создать ни «Песен западных славян», ни «Полтавы»; а Лермонтову нельзя было бы писать «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». И даже Николаю Заболоцкому не следовало перекладывать на современный язык «Слово о полку Игореве» - ведь он не жил при Игоре Святославиче!.. Но, к счастью, историческая проза, стихи и поэмы на исторические темы благополучно создаются с XIX века до наших дней, и уже сами Пушкин и Лермонтов стали объектами внимания новых авторов, ибо дело поэзии - не историческая, но психологическая и даже где-то «энергетическая» реконструкция минувшего. Что как раз и удалось Свищёву, а сам он на упрёк остроумно возразил: «Это я хорошо сохранился!».
В свою очередь, Анна Берсенёва и я убеждали собравшихся, что это стихотворение не «политическое» и даже не «историческое», а «метафизическое». Анна Берсенева провела неслучайную параллель «пения всем отрядом» со стихотворением «Поезд», тоже не вошедшим в книгу «Одно из трёх» и тоже заслуживающим упоминания:
Ночь. Январь. Курьерский скорый. Ресторан.
Едут в отпуск два майора. Капитан
затонувшего в итоге корабля
уронил себе под ноги три рубля.
Их украдкой поднимают или нет,
и, навечно занимая туалет,
то ли Света, то ли Настя, вся ничья,
превратит свои запястья в два ручья.
Покосившийся шлагбаум. Протвино.
Едет в ссылку розенбаум, иванов,
едут отроки и сроки, их отцы,
сутенёры и пророки, близнецы,
мастера и маргариты... Льёт вода,
то фонарь сверкнёт на бритве, то звезда.
…………………………………………
…Подготовлен был на совесть их ночлег,
проплывал в снегу по пояс их ковчег,
мимо ехали вокзалы-города,
и мерещились то шпалы, то вода.
Анна Берсенева совершенно справедливо говорила, что этот поезд идёт в метафизическом пространстве, куда живому человеку доступа нет - иначе как через стихи Свищёва, балансирующего на грани двух миров и обострённо чувствующего, что происходит за пределом реальности. Его «Поезд» - это, собственно, транспорт туда. А строчки «Почём вам знать, что вас не расстреляли?! / Вас расстреляли, просто вы не по…» служат ключом к пониманию не только этого стихотворения, но и почему у Свищёва во всём творчестве так развита тема потустороннего бытования. Потому что ещё не известно, в каком из миров мы живём - в реальном или ирреальном, вымышленном нами или посторонней фантазией, в чьём-то сне или в полноте собственных ощущений. Именно на эту инвариантность указывает Свищёв в стихотворении с якобы «политизированной» окраской. На деле узнаваемая по трафаретным штрихам реальность сталинского СССР - символ не другой России, а другого мира, всегда сопутствующего поэту Михаилу Свищёву и его преданным читателям. Но вот какой мир тот, а какой другой, можно спорить ещё дольше, чем о политике.
Кстати, если даже не уходить в метафизику, а рассматривать исторические стихотворения «просто» как завлекательные пейзажи из ушедших времён, Михаилу Свищёву и они удаются. Сужу по стихотворению «Сапёр Фомин» в книге «Одно из трёх» с эпиграфом из Евангелия от Иоанна «…подай перст свой сюда» (об уверении Фомы):
Календари на палец похудели
в конце весны, и сорван без стыда
большой войны последний день недели,
который называется среда.
…………………………………
И, налезая строчками на ставни,
кириллица, как рация, фонит
на штукатурке майского рейхстага:
«Проверено. Бог есть. Сапёр Фомин».
Переходя непосредственно к сборнику «Одно из трёх», отмечу, что другой мир Михаила Свищёва бывает очень неуютен, если не зловещ - радостный, уверовавший сапёр Фомин здесь едва ли не в одиночестве:
Пятый элемент
Позади огни и воды,
в сотне тысяч от Земли
космонавтам нужен воздух,
а его не подвезли…
………………………..
под аквариумной крышкой
смотрят рыбки в глубь кают,
как они всё дышат, дышат,
как скребут стекло чуть слышно,
а потом перестают.
Тут прямо поименовано фантастическое место действия - внутренность космического корабля, на котором разыгрывается хоть и фантастическая, но пугающая трагедия (представьте себе отсутствие воздуха - не побегут мурашки по коже?!). Но «плоскостное решение» этих стихов гораздо сложнее - в нём есть как минимум ещё одна смена пространств и фокальных героев - апелляция к аквариумным рыбкам, глядящим на драму человеков из собственного мира. Не от их ли имени написано стихотворение? Мы не можем утверждать это стопроцентно; скорее всего, есть и третий, и даже четвёртый уровень бытия, связанные с этой жуткой сказочкой. Из одного следят за космонавтами и рыбками, из другого пишут обо всей ситуации. А та реальность, где читают и узнают, что там произошло, - которая она по счёту?.. Так у Михаила Свищёва почти всегда - внешне простые конструкции оказываются вратами в неизведанное, «чёрными дырами», в которых теряется не только земная система координат, но порой и система ценностей:
Часы стоят? - какая в них нужда,
Когда с тобой опять случилась вечность? -
откровенно формулирует это «перевёрнутое» видение стихотворение с говорящим названием «Теория относительности».
Здесь врут народные приметы,
и как побудку ни играй,
мы не конец увидим света,
а лишь его щербатый край, -
каламбурит над извечным страхом человечества (впрочем, обретшим в последние годы лихорадочную популярность) стихотворение «С Итаки», где заголовок кажется чужеродным и вычурным, особенно на фоне нарисованного пейзажа, где «собираются по трое, …и на майках ордена», где «баба в телогрейке» отмывает «телогрейку от кровей» «на берегу рябого пруда», где «гниют мостки в густой траве». Но во всю эту «немытую Россию» (даже размер, обратите внимание, лермонтовский!) «вписана» реальность гомеровской поэмы в поразительном контексте:
и церковь Троицы, как Троя,
под склад сантехники сдана.
………………………………..
ворота заперты, и греки
вповалку спят внутри коня.
Небольшая интерлюдия: странствие Одиссея - один из «двигателей» поэзии Свищёва. У него в книге встретится разом стремление и невозможность «из удалённых одиссей / домой вернуться», встретятся две Трои, одна, ясно, мифологическая, а другая, судя по всему, метафизическая, всегда существующая вне времени и географии, так как «обещанье новых встреч» дано в истоке человечества и при рождении мира. На книжной полке у автора «стоит Гомер в советском переводе», а в книге «Одно из трёх» также фигурируют Орфей, идущий спиной к Эвридике, и Тесей, недовольный богами, так как «наши боги слишком люди». Без опровержения устоев Свищёв не был бы Свищёвым - и это замечание - очевидный резон вернуться к неочевидностям и парадоксам нашего героя.
…зачем есть рай, хранимый для тебя,
на тот расчёт, что в нём тебя не будет? -
вопрошает Михаил Свищёв в стихотворении «СВД», где перемешались разрушенная церковь, поросшая по крыше ромашкой и чистотелом, голубь, «листовкой» пролетающий над амвоном, бородатый дьякон (в разрушенном храме?), а видится всё это в прицел снайперской винтовки Драгунова. Опять решительное отстранение автора - фокального героя - происходящего - поэтического вывода из происходящего друг от друга, в результате чего «поэтический вывод» становится с ног на голову, рай перестаёт быть не только нужным, но и желанным, а слово «расчёт» буквально давит своей двусмысленностью. Естественен в контексте СВД и разрушенной церкви, выцеливаемой в оптику, только боевой расчёт, а не упование на Царствие Небесное (что ж это за царство, если не может спасти дом Божий на земле, читается между строк сакраментальное?). Впрочем, от прихода божества в мир людей ждать хорошего тоже не приходится, далее предупреждает Свищёв:
привычно обойдя ментов и табор,
она войдёт в битком набитый тамбур, -
она стоит и едет по Руси
в людской толпе - не с ними, но на фоне…
…И гопники стоп-кран сорвут, и первым
в промерзшей электричке на Перерву
заголосит в коляске идиот,
и колыхнутся в сумочке от Prada
детектор лжи и детонатор правды,
и небо на платформу упадёт.
О том, чьё взаимодействие с людьми столь разрушительно, узнаёшь только из эпиграфа «от» Александра Кабанова: «…только истина убивает». Михаил Свищёв любит и умеет работать с эпиграфами, и жаль, что не все стихи в сборнике начинаются с них. Но те, что есть, разом точны и фантазийны, лишний раз восхищая тонкостью владения автора художественным словом, своим и чужим.
Среди «вступительных слов» есть даже цитата из «Повести о Петре и Февронии»: «Равна ли убо си вода есть, или едина слажеши?». Такой эпиграф подводит к пониманию стихотворения, в котором задействованы «соседские Фешка с Петькой» - они «третий час летают с крутой горы на скрипучих санках», а за ними, как это принято в поэтической многомерности Свищёва, наблюдает «кто-то третий». Но этого мало - стихотворение кончается:
…и, поди, рознится он лишь на вкус -
снег по обе стороны детских санок.
Так что черта от саночек становится не только следом на снегу, но и водоразделом между неведомыми пространствами, этим основным сюжето- и поэтикообразующим элементом творчества Михаила Свищёва.